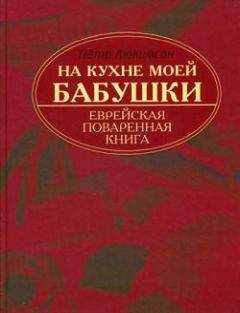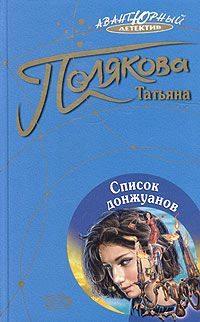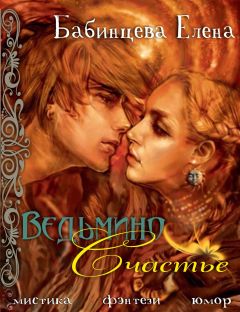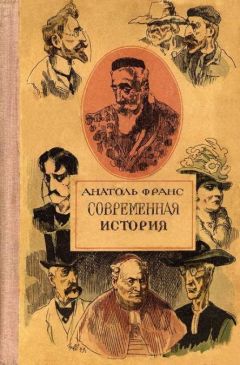Анатоль Франс - Господин Бержере в Париже
– А почему вы не подадите жалобы?
– Кому?
– Не знаю… Правительству…
Он не ответил и продолжал еще некоторое время свои наблюдения. Затем, убедившись, что этот человек не был одним из его шпиков, Жозеф вернулся к баронессе несколько успокоенный.
– Как я вас люблю! Вы сегодня еще красивее, чем всегда. Уверяю вас. Вы очаровательны. А вдруг их мне сменили, моих филеров… Это Дюпюи меня наградил ими. Один был большой, другой маленький. Большой носил дымчатые очки. У маленького был клюв попугая вместо носа и раскосые птичьи глаза. Я знал их. Они были не очень опасны. Тертые молодцы. Когда я бывал у себя в клубе, каждый из моих друзей, входя, говорил мне; «Лакрис, я видел ваших детективов у дверей». Я посылал этим добрым малым сигары и пиво. Иногда я подумывал, не приставил ли их Дюпюи ко мне, чтобы меня охранять. Он был вспыльчив, своенравен, взбалмошен, но все же он был патриот. Я не сравню его с теперешними министрами. С ними надо быть начеку. А вдруг они сменили моих филеров, негодяи!
Он снова подошел к окну:
– Нет!.. Это извозчик, который курит трубку. Я не заметил его жилета с желтыми полосами. Страх искажает предметы, это несомненно… Признаюсь, я испугался – за вас, конечно. Я не могу допустить, чтобы вы были скомпрометированы из-за меня. Вы такая очаровательная, такая прелестная…
Он вернулся к ней, заключил ее в объятия и осыпал бурными ласками. Вскоре ее костюм пришел в такой беспорядок, что стыдливость, помимо всякого другого чувства, заставила бы ее снять его.
– Элизабет, скажите: вы любите меня?
– Мне кажется, что если бы я вас не любила…
– Слышите эти тяжелые, ровные шаги на улице?
– Нет, друг мой.
И действительно, погруженная в сладостное небытие, она не прислушивалась к шумам внешнего мира.
– На этот раз никаких сомнений. Это он, мой филер, коротыш, птичья рожа. Всю жизнь буду помнить его шаги. Я отличу их среди тысячи.
И он опять направился к окну.
Эта необходимость быть начеку приводила его в нервное состояние. После поражения, постигшего монархистов 23 февраля, он утратил свою радужную самоуверенность. Он стал думать, что дело затягивается и усложняется. Большинство его соратников пришло в уныние. Он становился мрачен. Все его раздражало.
На свое несчастье Элизабет сказала ему:
– Не забудьте, мой друг, что вы, по моей просьбе, приглашены завтра на обед к моему брату, барону Вальштейну. Это даст нам случай увидеться.
Он вышел из себя:
– A ваш брат, барон Вальштейн! Поговорим-ка о нем. Достойный отпрыск своего племени, нечего сказать! Анри Леон предложил ему на этой неделе интересное дело: пропагандистскую газету, которую мы бы безвозмездно распространяли в неограниченном количестве по деревням и рабочим центрам. Он сделал вид, что не понял. Он стал давать советы Леону, хорошие советы. Что же, он думает, ваш брат, что нам нужны от него одни лишь советы?
Элизабет была антисемитка. Она почувствовала, что нарушит хороший тон, если вступится за своего горячо любимого брата барона Вальштейна из Вены. Она промолчала.
Лакрис принялся вертеть в руках маленький револьвер, который перед тем положил на ночной столик.
– Если придут меня арестовывать… – сказал он.
Бешеный прилив гнева затуманил ему мозг. Он воскликнул, что всех этих евреев, протестантов, франкмасонов, свободомыслящих парламентариев, республиканцев, приспешников правительства надо выпороть публично на площади и вкатить им промывательное из купороса. Он стал красноречив, заговорил благочестивым языком писак из газеты «Крест»:
– Жиды и франкмасоны пожирают Францию. Они разоряют нас и губят. Но погодите! Дайте дожить до рейнского процесса, и вы увидите, как мы пустим им кровь, прокоптим им окорока, нашпигуем их, подвесим их за шею перед колбасными лавками!.. Все готово. Восстание вспыхнет одновременно в Ренне и в Париже. Дрейфусаров мы истолчем в порошок на мостовой. Лубе поджарим в горящем Елисейском дворце. И давно пора.
Госпожа де Бонмон представляла себе любовь – как бездну, напоенную блаженством. Забыть весь мир в этой небесно-голубой комнате на один только день – ей было мало. Она попыталась навести своего друга на более кроткие мысли и сказала:
– У вас красивые ресницы.
И она осыпала его веки мелкими поцелуями.
Когда она в истоме снова раскрыла глаза, вызывая в душе воспоминания о бездонном счастье, в которое погрузилась на мгновение, она увидала Жозефа, озабоченного и, казалось, очень далекого от нее, хотя она одной рукой, красивой, утомленной и безвольной, еще привлекала его к себе. Голосом, нежным, как вздох, она спросила его:
– Что с вами, мой друг? Мы только что были так счастливы!
– · О, да, – ответил Жозеф Лакрис. – Но я думаю о том, что мне нужно, еще до ночи, отправить три шифрованных депеши. Это и сложно и опасно. Одно время нам даже казалось, что Дюпюи перехватил наши телеграммы от двадцать второго февраля. Там было написано достаточно, чтобы упрятать всех нас за решетку.
– Но он их не перехватил, друг мой?
– Вероятно, нет, раз нас не потревожили. Однако у меня есть основание полагать, что последние две недели правительство следит за нами. И пока мы не задавим потаскушку, я не буду спокоен.
Тогда, нежная и лучезарная, она обвила ему шею руками, словно благоуханной гирляндой цветов, устремила на него влажные сапфиры своих глаз и сказала с улыбкой, игравшей вокруг ее чувственного, свежего рта:
– Перестань тревожиться, друг мой. Не терзай себя. Вы добьетесь успеха, я в том уверена. Она погибла, их республика. Разве она в силах устоять перед тобой? Никто больше не хочет парламентариев. Их не хотят, я это знаю. Не хотят больше франкмасонов, свободомыслящих и всех этих скверных людей, которые не верят в бога, у которых нет ни религии, ни отечества. Потому что религия и отечество ведь это одно и то же, не правда ли? Подъем духа сейчас необыкновенный. По воскресеньям, за обедней, церковь полна. И там бывают не одни только женщины, как уверяют республиканцы. Там бывают мужчины, мужчины из общества, офицеры. Поверь мне, мой друг, вам все удастся. А кроме того, я буду ставить за вас свечи в часовне святого Антония.
Он ответил задумчиво и внушительно:
– Да, мы покончим со всем в первых числах сентября. Настроение публики благоприятное. Население сочувствует нам и поощряет нас. В чем другом, а в симпатиях у нас нет недостатка.
Она. неосторожно спросила его, чего же им недостает.
– Чего нам недостает или по крайней мере может недоставать, если кампания затянется, ото денег, черт возьми! Деньги – нерв войны. Нам их дают. Но нужно много. Три дамы из высшего общества принесли нам триста тысяч франков. Его высочество был умилен этой чисто французской щедростью. Не правда ли, в этом подношении, сделанном королевской власти женщинами, есть что-то очаровательное, утонченное, напоминающее старорежимную Францию, старорежимное общество?
В это время баронесса приводила себя в порядок перед зеркалом и, казалось, не слушала.
Он уточнил свою мысль:
– А теперь они катятся, они катятся, эти триста тысяч франков, поднесенные белыми руками. Его высочество сказал нам о рыцарской изысканностью: «Истратьте эти триста тысяч, истратьте их до последнего су». Если бы еще какая-нибудь прелестная ручка принесла нам сто тысяч франков, она заслужила бы благословение. Она вложила бы свою лепту в спасение Франции. Открывается почетная вакансия среди амазонок банковского чека, в эскадроне прекрасных сторонниц Лиги. Обещаю, не боясь быть дезавуированным, обещаю четвертой жертвовательнице собственноручное письмо принца и более того – табурет при дворе этой зимой.
Однако баронесса, почуяв, что у нее вымогают деньги, испытывала тягостное ощущение. Это был не первый случай. Но она не могла привыкнуть. И она считала совершенно бесполезным способствовать своими деньгами восстановлению трона. Безусловно она любила этого молодого принца, такого красивого, такого румяного, с такой прекрасной бородой, русой и шелковистой. Она горячо жаждала его возвращения, ей не терпелось увидеть его торжественный въезд в Париж и его помазание. Но в то же время она думала о том, что при двух миллионах дохода он не нуждался ни в каких подношениях, кроме любви, пожеланий и цветов. Она пробормотала, глядя в зеркало:
– Господи, как я растрепана!
Затем, приведя в порядок костюм и прическу, она достала из портмоне стеклянный медальон, оправленный позолоченным ободком и украшенный клевером о четырех листочках. Она протянула его своему другу и сказала прочувствованным тоном:
– Он принесет вам счастье. Обещайте мне хранить его вечно.
Жозеф Лакрис первым вышел из голубой квартирки, дабы отвлечь на себя внимание полицейских агентов, если за ним следили. На лестничной площадке он пробормотал со злобной гримасой:
– Истая Вальштейн эта женщина! Даром что крещена… Горбатого могила исправит.