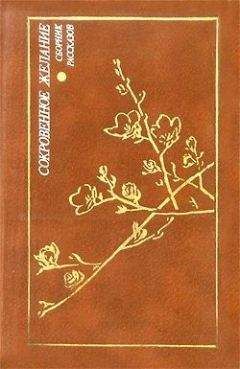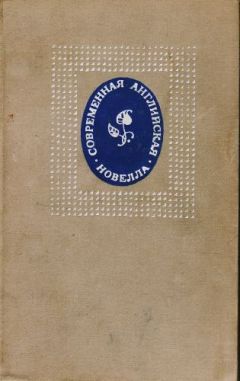Жюльен Грин - Обломки
Глава вторая
Мальчик переходил из рук в руки, и его пухлой свежей щечки трижды коснулись равнодушные губы. «Вот она, первая минута первой недели скукотищи, — подумал Филипп. — Какое отношение имеет ко мне это существо? Почему он здесь?»
— Ну как, мальчуган, — проговорил он вслух наигранно веселым тоном, — хорошо доехал? Пересаживался в Мотт?
— Раз он здесь, — подхватила Анриетта, фыркнув, — значит, он попал в нужный поезд. Сядь ко мне, Робер.
Элиана встала и заперла дверь, которую забыл закрыть за собой мальчик.
— Конечно, он мог ехать прямым поездом, — проговорила она, бросив укоризненный взгляд на сестру. — Вовсе не обязательно делать в Мотт пересадку. Но, по-моему, ребенку его лет как раз очень интересно сделать пересадку одному, без помощи взрослых. Очевидно, Филипп того же мнения, раз он его спросил…
— Ну-у, я-то спросил, чтобы вообще о чем-то спросить, — промямлил Филипп. — Я не умею с детьми разговаривать.
— Ты в первом классе ехал? — спросила Анриетта.
— Ну, конечно, в первом, — отозвалась Элиана.
— А где же твои вещи, где чемодан? — продолжала расспрашивать мать так, словно на ее вопросы ответил сам Робер.
— Дома есть все, что ему понадобится, — возразила старая дева. — К чему ребенку таскать с собой чемодан, только воров вводить в соблазн.
— Есть хочешь?
— Сейчас мы будем завтракать, — проговорил Филипп, хлопнув в ладоши с таким неестественно оживленным видом, что ему первому стало противно.
Робер, которому так и не удалось раскрыть рта, чтобы ответить хоть на один обращенный к нему вопрос, молча поплелся за взрослыми в столовую, где уже был накрыт завтрак, и сел между Элианой и Анриеттой. Как ни откидывал он своей по-мальчишески красной ручонкой темные шелковистые пряди волос, они все равно падали ему на глаза. Из-за длинных ресниц вокруг глаз лежали тени, что придавало его простодушной мордашке что-то кукольное. Равно как и губы, яркие, четко вырезанные; они казались нарисованными и странно противоречили выражению удивительной наивности, застывшей в глубине его огромных, робко глядевших на свет божий глаз. Всякий раз, чувствуя себя объектом внимания взрослых, он старался улыбнуться, только открывая краешек мелких зубов. Голубая форма сидела на нем нескладно, топорщилась горбом на груди, воротничок подпирал уши, а рукава не доходили до кистей рук. Это дитя, зачатое в минуту ненависти, было сама свежесть и ясность, такими бывают полевые цветы. Ущипнув его за щечку (пожалуй, больнее, чем следовало бы), Элиана поразилась нежности этой кожи, приводившей на память гладкие и плотные лепестки пиона.
— На кого же он все-таки похож? — спросила она, глядя на Робера.
— На отца, — живо откликнулась Анриетта.
— Нет уж, — недовольно отрезал Филипп. — Вот уж ничуть.
— А что, это было бы не так плохо, — необдуманно бросила Элиана.
Эти слова вырвались как крик души, но она сразу прикусила губу. На ее счастье, Робер повязал себе на шею салфетку, и это дало бедняжке подходящий повод переменить разговор.
— Нет, нет и нет, — проговорила она, срывая салфетку. — Здесь у нас салфетку кладут на колени и до конца не разворачивают. Смотри, детка, — добавила она, делая над собой усилие, чтобы говорить ласково, так как не любила этого ребенка, живой символ союза, который она старалась разрушить, но ее обезоружила прелесть Робера, и она даже вспыхнула, упрекнув себя за несдержанность. На круглые коленки, пестрые от свежих и давних царапин, она положила твердо накрахмаленную салфетку, блестевшую на сгибах. Робер вскинул на тетку влажные глаза и улыбнулся. Как только он попадал в общество этих трех взрослых особ, сердце у него начинало биться сильнее, тревога росла. От страха перехватывало горло, а вдруг он делает все не так, как надо. Никогда еще он не видал столько ножей и вилок. Какую взять? Однако это еще полбеды, страшнее было другое — он не понимал, что ему говорят. Когда папа смотрит на него, он или хмурится, или удивленно вскидывает брови; мама все время смеется, а почему — неизвестно, а тетя то наскакивает на него, то ласкает, и тоже непонятно почему. На всякий случай он улыбался и делал вид, что всем доволен. Но куда счастливее он чувствовал себя в коллеже, и сейчас ему до смерти захотелось очутиться в их огромной темной столовой и чтобы только одна-единственная оловянная вилка лежала рядом с оловянной же ложкой, которая честно служила и для супа и для компота.
— Да он немой, — заметил Филипп, — сколько времени мы сидим за столом, а он хоть бы слово сказал.
— Он тебя стесняется, — поспешила вмешаться Элиана, чувствуя, что сейчас начнутся слезы.
— А я не желаю, чтобы он стеснялся, — продолжал Филипп подчеркнуто мужественным голосом. — А ну-ка, молодой человек, подымите голову.
Лохматая головенка поднялась, и губы снова скривила улыбка.
«До чего же я гнусен, — подумал Филипп. — Нет, решительно, в душе каждого родителя сидит палач».
— Сейчас я задам вам один вопрос, подумайте над ним хорошенько, — продолжал он важным тоном. — От этого, мосье Клери, зависит ваше счастье. Только сначала выпейте для храбрости.
Робер отхлебнул из стакана, но не рассчитал глотка и поперхнулся, на глазах у него выступили слезы.
— Боже мой, Филипп, поосторожней с ним, — шепнула Элиана. — Ты же его совсем запугал.
— Вы, молодой человек, уже давно вступили в сознательный возраст. Следовательно, можете отвечать здраво. Что вы предпочитаете, цирк или кино?
— Цирк, цирк! — воскликнула Анриетта. — Все уже договорено. Антуанетта к двум часам поведет его в цирк Медрано. Там прекрасная программа.
— Значит, окончится в пять, — подсчитала Элиана. — Потом Антуанетта зайдет с ним в кондитерскую. А дома он будет играть у себя в спальне. До завтрашнего дня мы о нем не услышим, а завтра он целый день проведет у своей кузины.
— А вторник? — с опаской спросил Филипп.
— Во вторник Антуанетта выразила желание свезти его в Версаль. Они поедут на электричке, там и позавтракают. А насчет дальнейшего будет видно.
Слова Элианы, сумевшей так умно распорядиться днями каникул, были встречены восторженными похвалами присутствующих. В ответ Элиана мило улыбалась и не сразу приняла свое обычное выражение; бросив случайный взгляд в зеркало, висевшее напротив, она убедилась, что веселая мина молодит ее, по крайней мере, лет на десять. «А я еще совсем ничего, — подумала она, — особенно если свет сбоку. Самое главное — иметь веселый вид. Возраст человека измеряется степенью веселости взгляда. Хотя боюсь, что все мои морщины остались на месте», — цинично добавила она про себя. Она полуобернулась к Филиппу, стараясь, чтобы солнечный луч, золотивший ее поблекшую кожу, не соскользнул со щеки.
— Да, я совсем забыла сказать, тебе, Филипп, утром звонили. Некий господин Дидерик. Но тебя не было.
— Дидерик? А что ему от меня надо?
— Не знаю. Он хочет тебя видеть и после завтрака опять позвонит.
— По-моему, я где-то слыхал это имя.
— Очевидно, рассчитывает деньги занять, — высказала предположение Анриетта.
— Хочешь, я сама его приму, — предложила Элиана. — Скажу, что тебя нет. Если что-нибудь важное, он сможет зайти на днях.
Филипп чуть было не согласился, но, вовремя заметив насмешливое и даже слегка загадочное лицо жены, исподтишка наблюдавшей за ним, спохватился.
«Радуется, — подумал он. — Надеется, что я стушуюсь перед могущей быть неприятностью, как и перед всем прочим».
— Нет, не надо, — сказал он, швырнув нож на тарелку, и все присутствующие от неожиданности вздрогнули. — Я сам с ним побеседую. Если окажется нахалом, я его проучу.
— Уши надерешь? — спросила Анриетта.
Сжав челюсти, Филипп взглянул на жену. Элиана свирепо выкатила глаза и посмотрела на Анриетту, присоединившись в душе к безмолвному гневу зятя. А Анриетта, попав под обстрел двух пар блестевших от злости глаз, сначала улыбнулась, потом, не сдержавшись, захохотала самым непристойным образом, чуть не уткнувшись лицом в край стола. В ледяном молчании она дала волю своему неуместному веселью, она смеялась, вовсе не желая смеяться, смеялась без радости, и ей было стыдно, что не может остановиться; однако, боязнь показаться смешной пересилила, Анриетта затихла; она подумала, что похожа на сумасшедшего: его ведут на расстрел, а он вместо того, чтобы вопить, хохочет.
Элиана с похоронной миной протянула сестре вазу с фруктами и вытянула под столом ногу с намерением наступить ей на ногу и одновременно подмигнула, как бы говоря, что хватит, мол, смеяться. Но Робер помешал этому маневру: он сидел между матерью и теткой и болтал ногами; когда Элиана вытянула ногу, он ударил ее пониже икры, не сразу сообразил, что произошло, а сообразив, покраснел до ушей. Элиана едва не скривилась от боли, но удержалась, и эта маленькая трагедия прошла не замеченной. Филипп усердно чистил яблоко. Анриетта взяла было мандарин, но, повертев его в пальцах, положила обратно. В вазе лежал только один мандарин, и уже давно на него с вожделением поглядывал самый младший из сотрапезников; после недолгой душевной борьбы он сдался: видимо, желание пересилило стыд, красная ручонка потянулась к вазе, и мандарин увенчал собой холмик очисток, возвышавшийся на тарелке. Под нетерпеливым ногтем сползла кожица сначала с правого, потом с левого бочка, и прозрачная плоть мандарина, казалось, сбросила ее сама собой. Но тут острый и тонкий запах достиг ноздрей сидевшей в задумчивости Элианы; почуяв аромат, приведший ей на память школьные праздники, она машинально перевела взгляд на тарелку соседа и справедливой дланью конфисковала мандарин. Тут она снова увидела себя в зеркале и обозвала уродиной.