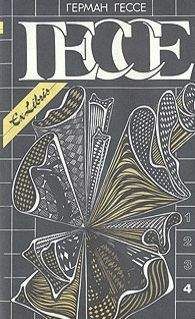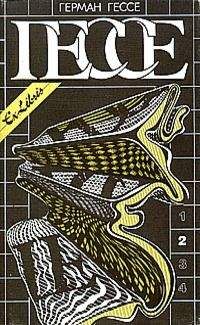Герман Гессе - Собрание сочинений в четырех томах. Том 3
Он услышал, как стучит дятел, и стал подкрадываться к нему; он долго напрасно пытался увидеть его, наконец это ему удалось, и он какое-то время наблюдал, как тот, прилепившись к стволу, прилежно постукивал, двигая головкой туда-сюда. Жаль, что с животными не поговоришь! Как было бы здорово окликнуть дятла и сказать ему что-нибудь приветливое, узнать о его жизни на деревьях, о его трудах и радостях. Вот если бы можно было превращаться в животных!
Он припомнил, как иногда в часы досуга рисовал грифелем на доске цветы, листья, деревья, животных, головы людей. Этим он часто подолгу забавлялся, а иногда, подобно маленькому Господу Богу, создавал причудливые вещи: чашечке цветка подрисовывал глаза и рот, из ветки с пучком листьев получались фигуры, дерево увенчивалось головой. Играя в эту игру, он бывал счастлив и очарован, мог совершать волшебные превращения, проводя линии и сам удивляясь, когда из начатой фигуры получался лист дерева, хвост рыбы или лисы, бровь над человеческим глазом. Вот так бы уметь превращаться, подумал он, как тогда, играя линиями на доске! Гольдмунд охотно стал бы дятлом, может, на денек, может, на месяц, — жил бы на вершине дерева, бегал бы высоко по гладким стволам, сильным клювом долбил бы кору, опираясь на перья хвоста, говорил бы на языке дятлов и доставал бы вкусные вещи из коры. Мило и выразительно звучало постукивание дятла по звонкому дереву.
Много животных повстречалось Гольдмунду в пути. Зайцы выскакивали неожиданно из кустарника, когда он подходил близко, пристально смотрели на него, поворачивались и неслись прочь, прижав уши, показывая белое пятнышко под хвостом. На маленькой полянке он нашел змею, она не уползала, это была не живая змея, а только сброшенная кожа; он поднял ее и стал рассматривать: по спине шел красивый серо-коричневый рисунок, солнце просвечивало сквозь тонкую, как паутина, змеиную кожу. Видел он черных дроздов с желтыми клювами, неподвижно смотрели они черными пугливыми бусинками глаз и улетали прочь, держась низко над землей. Много было красногрудок и зябликов. В каком-то месте в лесу встретилась яма, прудок, полный зеленой, густой воды, по которой носились как одержимые, предаваясь какой-то непонятной игре, длинноногие пауки, а над ними летали стрекозы с темно-синими крыльями. А как-то, уже к вечеру, он увидел — вернее, ничего не увидел, кроме движущейся волнующейся листвы, и услышал треск ломающихся ветвей и шум шлепающих комьев сырой земли: какое-то большое, невидимое животное с огромной силой продиралось сквозь густой кустарник, то ли олень, то ли кабан, неизвестно. Долго еще стоял он, когда прошел страх, облегченно переводя дыхание, глубоко взволнованный и с колотящимся сердцем прислушивался, как удаляется зверь, пока наконец все не стихло.
Он так и не выбрался из леса и вынужден был в нем заночевать. Пока он искал место для ночлега и готовил постель из мха, он пытался представить себе, что будет, если он так и не выберется из леса и останется в нем навсегда. И он счел, что это было бы большим несчастьем. Выжить, питаясь ягодами, было в конце концов можно, спать на мху — тоже, кроме того, ему, несомненно, удалось бы построить хижину, может быть, даже развести огонь. Но быть все время одному и жить среди безмолвных, спящих деревьев и зверей, убегающих от тебя, с которыми нельзя поговорить, — это было бы невыносимо печально. Не видеть людей, никому не говорить: «Добрый день!» и «Спокойной ночи!», не иметь возможности посмотреть кому-то в лицо, заглянуть в глаза, не увидеть больше ни одной девушки, ни одной женщины, никогда больше не чувствовать вкус поцелуя, не играть больше в милые тайные игры губ и тела — о, это немыслимо! Если бы такое было ему суждено, подумал он, уж лучше было бы стать животным — медведем или оленем, даже ценою отказа от вечного блаженства. Быть медведем и любить медведицу было бы неплохо, во всяком случае намного лучше, чем, сохранив рассудок и язык, оставаться без любви в печальном одиночестве.
Засыпая на своем ложе из мха, он с любопытством слушал многочисленные непонятные, таинственные ночные звуки леса. Теперь это были его товарищи, с ними он должен жить, к ним привыкать, примеряться и ладить с ними; он принадлежал к лисам и ланям, елям и соснам, с ними будет жить, делить воздух и солнце, ждать наступления дня, с ними голодать, быть у них гостем.
Потом он уснул и видел во сне зверей и людей: был медведем, лаская Лизе, съел ее. Среди ночи он в страхе проснулся, не зная почему, на сердце было бесконечно тоскливо, он был подавлен и долго раздумывал. Ему вспомнилось, что вчера и сегодня он заснул, не помолившись. Он поднялся, встал на колени возле своего ложа и дважды прочитал вечернюю молитву — за вчера и за сегодня. Вскоре он снова заснул.
Удивленно огляделся он утром в лесу, забыв, где находится. Страх перед лесом начал проходить, с новой радостью доверялся он лесной жизни, продвигаясь, однако, все дальше и ориентируясь по солнцу. Как-то он попал на совершенно ровное место, почти без кустарника, лес состоял сплошь из старых толстых и прямых пихт; когда он прошел сквозь эти лесные колонны, они напомнили ему колонны большой монастырской церкви, как раз той, в портале которой недавно исчез Нарцисс. Когда же это было? Неужели действительно всего два дня тому назад?
Лишь через двое суток он вышел из леса. С радостью узнавал он признаки близости человека: обработанную землю, полосы пашни, засеянной рожью и овсом, луга, в которых виднелись протоптанные там и сям узкие тропинки. Гольдмунд срывал рожь и жевал, приветливо смотрела на него обработанная земля, после лесной глуши все казалось ему по-человечески общительным — дорожка, овес, выгоревшие До белизны полевые гвоздики. Вот он и пришел к людям. Через час он проходил мимо пашни, на краю которой был сооружен крест, он преклонил колена и помолился у его подножия. Обогнув холм, он вдруг остановился под тенистой липой, услышав прелестную мелодию источника, вода которого падала из деревянной колоды на деревянный желоб, попил вкусной холодной воды и с радостью увидел несколько соломенных крыш, выступавших из-за кустов бузины, ягоды которой уже потемнели. Больше, чем все эти милые знаки, его тронуло мычание коровы: оно звучало для него так отрадно, тепло и уютно, как будто приветствовало его как желанного гостя.
Всматриваясь, он приближался к крестьянскому дому, из которого слышалось мычание коровы. Перед дверью дома в пыли сидел мальчуган с рыжими волосами и светло-голубыми глазами, рядом с ним стоял горшок, полный воды, и из пыли и воды он месил тесто, которым уже были покрыты его голые ноги. Счастливый и серьезный, он разминал грязное мокрое месиво руками, делая из него шарики и помогая при этом себе еще и подбородком.
— Здравствуй, малыш! — сказал Гольдмунд очень приветливо.
Но ребенок, увидев чужого, раскрыл рот, толстая мордашка скривилась, и он с ревом бросился на четвереньках к двери. Гольдмунд последовал за ним и попал в кухню; здесь было так темно, что он, войдя с яркого дневного света, сначала ничего не мог разглядеть. На всякий случай он произнес набожное приветствие, ответа не последовало; но постепенно за криком испуганного ребенка можно было услышать слабый старческий голос, утешавший малыша. Наконец из темноты поднялась и приблизилась маленькая старушка; прикрыв рукою глаза, она взглянула на гостя.
— Мир тебе, матушка, — воскликнул Гольдмунд, — и благословение всех святых доброму лицу твоему! Вот уже три дня, как я не видел лица человеческого.
Бессмысленно смотрела на него старуха дальнозоркими глазами.
— Чего ты хочешь-то? — спросила она неуверенно.
Гольдмунд подал ей руку и слегка погладил по ее руке.
— Хочу пожелать тебе здравия, бабушка, немного отдохнуть и помочь тебе развести огонь. Не откажусь, если дашь кусок хлеба, но это не к спеху.
Он увидел у стены грубо сколоченную скамью и сел на нее, а старуха тем временем отрезала мальчику кусок хлеба; тот с напряженным любопытством, но все еще готовый в любой момент расплакаться и убежать, уставился на незнакомца. Старуха отрезала от каравая еще один ломоть и подала Гольдмунду.
— Спасибо, — сказал он, — да вознаградит тебя за это Господь!
— Живот-то пустой? — спросила женщина.
— Не совсем, в нем изрядно черники.
— Ну так ешь! Откуда идешь-то?
— Из Мариабронна, из монастыря.
— Поп?
— Нет. Ученик. Странствую.
Она смотрела на него полунасмешливо, полубессмысленно, слегка покачивая головой на худой морщинистой шее. Пока он жевал хлеб, она отнесла малыша опять на солнце. Потом вернулась и с любопытством спросила:
— Что нового?
— Немного. Знаешь патера Ансельма?
— Нет. Что с ним?
— Болен.
— Болен? Помирает?
— Не знаю. Ноги больные. Не может ходить.
— Должно, помирает?