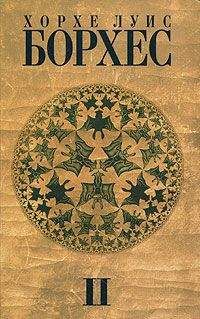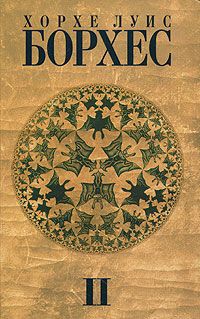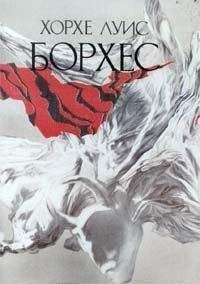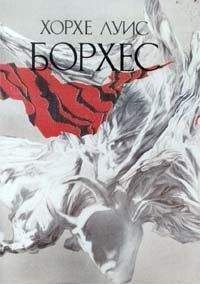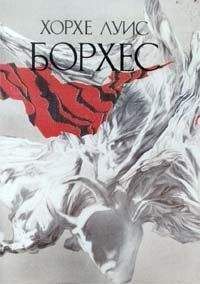Хорхе Борхес - Новые расследования
Заявленная цель «Биатанатоса» — обличить самоубийство; главная — доказать, что Христос покончил с собой[116]. То, что доказательство этой идеи Донн свел к стиху из Святого Иоанна и повторению глагола «почить», — невероятно и даже немыслимо; безусловно, он предпочел не заострять кощунственной темы. Для христианина жизнь и смерть Христа — центральное событие мировой истории; предыдущие столетия готовили его, последующие — отражали. Еще из земного праха не был создан Адам, еще твердь не отделила воды от вод, а Отец уже знал, что Сын умрет на кресте. Вот Он и создал землю и небо как декорацию для этой грядущей гибели. Христос, полагает Донн, умер по собственной воле; а это означает, что первостихии, и Вселенная, и целые поколения людей, и Египет, и Рим, и Вавилония, и Иудея были извлечены на свет Божий, дабы содействовать Его смерти. Возможно также, что железо было создано ради гвоздей, шипы — ради тернового венца, а кровь и вода — ради раны. Эта барочная идея уже угадывается в «Биатанатосе». Идея Бога, возводящего универсум, как возводят эшафот.
Перечитав эту заметку, я вспоминаю о трагическом Филиппе Батце, известном в истории философии под именем Филиппа Майнлендера. Как и я, он был пылким почитателем Шопенгауэра. Под его влиянием (а также влиянием гностиков) я вообразил, что мы — частицы какого-то Бога, который уничтожил Себя в начале времен, ибо жаждал стяжать небытие. Всемирная история — мрачная агония этих частиц. Майнлендер родился в 1841-м; в 1876-м опубликовал книгу «Философия отречения» и в том же году покончил с собой.
Паскаль
По словам моих друзей, мысли Паскаля будят в них мысль. Разумеется, нет такой вещи на свете, которая бы не могла стать толчком для мысли; однако мне эти врезающиеся в память осколки никогда не представлялись решением каких бы то ни было проблем, мнимых или подлинных. Мне они представлялись предикатами Паскаля как субъекта — своего рода чертами или свойствами Паскаля. И так же, как формула «quintessence of dust»[117] помогает понять не людей вообще, а принца Гамлета, формула «мыслящая тростинка»[118] помогает понять не людей вообще, а одного человека — Паскаля.
Кажется, Валери обвиняет Паскаля в намеренной драматизации. И верно, из его книги встает не образ учения или диалектического метода, а фигура поэта, затерянного во времени и пространстве. Во времени, поскольку будущее и прошлое бесконечны, а значит, не существует никакого «сейчас»; в пространстве, поскольку все равноудалено от бесконечно большого и от бесконечно малого, а значит, не существует никакого «здесь». Паскаль презрительно отзывается о «взглядах Коперника», однако в написанном им самим чувствуется головокружение богослова, который вырван из мира «Альмагеста» и заброшен в мир Кеплера и Джордано Бруно. Универсум Паскаля — тот же, что у Лукреция (и Спенсера), но бесконечность, опьянявшая римлянина, пугает француза. Верно и другое: Паскаль ищет Бога, Лукреций предлагает освободить нас от страха перед богами.
Паскаль, как уверяют, Бога нашел. И все-таки сознание этого счастья красноречиво у него куда меньше, чем сознание своего одиночества. Вот где ему нет равных, — достаточно напомнить знаменитый фрагмент 207 по изданию Бруншвига («Сколько царств о нас и не ведает!») и другой, за ним следующий, где Паскаль говорит о «бесконечной протяженности пространств, мне неведомых и не ведающих обо мне». Емкое слово «царства» и завершающий презрительный глагол производят ощущение почти физическое; однажды мне пришло в голову, не восходит ли это восклицание к Библии. Помню, что перерыл Писание, но не нашел места, которое искал и которого, скорей всего, не было, но нашел полную ему противоположность с устрашающими словами о человеке, чувствующим себя до мозга костей нагим под бдительным оком Бога. Апостол говорит (1 Кор 13:12): «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан».
Еще один пример — из фрагмента 72. Во втором абзаце Паскаль утверждает, что природа (пространство) это «бесконечная сфера, центр которой везде, окружность — нигде». Эту сферу Паскаль мог найти у Рабле (III, 13), который приписывает ее Гермесу Трисмегисту, или в полном символов «Roman de la Rose»[119], куда она попала, видимо, от Платона. Это несущественно; важно, что метафора, использованная Паскалем для обозначения пространства, употреблялась его предшественниками (и сэром Томасом Брауном в его «Religio Medici»[120] для обозначения божества[121]. Паскаля поражает величие не Творца, а Творения.
Когда Паскаль находит бессмертные слова для разлада и нищеты («On mourra seul»[122]), он — одна из самых волнующих фигур европейской истории; когда вносит в апологетику математическое исчисление вероятностей, он — одна из самых ее бессодержательных и легкомысленных фигур. Он — не мистик; он — из тех разоблаченных Сведенборгом христиан, которые считают рай наградой, а преисподнюю — наказанием и, привыкнув к меланхолическим размышлениям, не умеют разговаривать с ангелами[123]. Им не так важен Бог, как опровержение его врагов.
Настоящее издание[124] намеревалось с помощью сложной системы типографских значков передать «незавершенность, непрпчесанность и путаницу» рукописи; с этой задачей оно, как легко убедиться, блестяще справилось. Примечания, напротив, неудовлетворительны. Так, на странице 71 первого тома дан фрагмент, где Паскаль в семи параграфах развивает известное космологическое доказательство Аквината и Лейбница; публикатор его не опознаёт и замечает: «Вероятно, автор обращается здесь к неверующим».
Под некоторыми текстами публикатор приводит параллельные места из Монтеня или Священного Писания; круг источников можно расширить. Для иллюстрации «пари» стоило бы привести тексты Арнобия, Сирмона и Альгазеля, которые указывает Асин Паласьос («Следы ислама», Мадрид, 1941); для иллюстрации фрагмента против живописи — пассаж из десятой книги «Государства», где говорится, что Бог создал архетип стола, плотник — подобие архетипа, а живописец — подобие подобия; для иллюстрации 72 фрагмента («Je lui veux peindre l'immensite… dans l'enceinte de ce raccourci d'atome…»[125]) — его предвосхищение в понятии микрокосма, у Лейбница («Монадология», 67) и Гюго («La chauve-souris»[126]):
Le moindre grain de sable est im globe qui roule
Trainant comme la terre une lugubre foule
Qui s'abhorre et s'acharme…[127]
Демокрит полагал, что в бесконечности повторяются те же миры, где те же люди неукоснительно повторяют те же судьбы. Паскаль (на которого могли, кроме прочего, повлиять слова Анаксагора о том, что любая вещь заключает в себе весь мир) включил в каждый из этих миров множество ему иодобных: теперь любой атом пространства содержал в себе вселенную, а любая вселенная представляла собой атом. Логично предположить (хоть об этом и не сказано), что Паскаль увидел, как до бесконечности умножается в этих мирах.
Аналитический язык Джона Уилкинса
Я обнаружил, что в четырнадцатом издании «Encyclopaedia Britannica» пропущена статья о Джоне Уилкинсе. Оплошность можно оправдать, если вспомнить, как сухо статья была написана (двадцать строк чисто биографических сведений: Уилкинс родился в 1614 году; Уилкинс умер в 1672 году; Уилкинс был капелланом Карла Людвига, курфюрста пфальцского; Уилкинс был назначен ректором одного из оксфордских колледжей; Уилкинс был первым секретарем Королевского общества в Лондоне и т. д.); но оплошность эта непростительна, если вспомнить о философском творчестве Уилкинса. У него было множество любопытнейших счастливых идей: его интересовали богословие, криптография, музыка, создание прозрачных ульев, движение невидимой планеты, возможность путешествия на Луну, возможность и принципы всемирного языка. Этой последней проблеме он посвятил книгу «An Essay towards a Real Character and a Philosophical Language»[128] (600 страниц большого ин-кварто, 1668). В нашей Национальной библиотеке нет экземпляров этой книги; для моей заметки я обращался к книгам «The Life and Times of John Wilkins»[129] (1910) П. А. Райта-Хендерсона[130], «Woerterbuch der Philosophie»[131] Фрица Маутнера (1925); «Delphi»[132] Э. Сильвии Пенкхэрст; «Dangerous Thoughts»[133] Лэнселота Хогбена[134].
Всем нам когда-либо приходилось слышать неразрешимые споры, когда некая дама, расточая междометия и анаколуфы, клянется, что слово «луна» более (или менее) выразительно, чем слово «тооп»[135]. Кроме самоочевидного наблюдения, что односложное «moon», возможно, более уместно для обозначения очень простого объекта, чем двусложное «луна», ничего больше тут не прибавить; если не считать сложных и производных слов, все языки мира (не исключая волапюк Иоганна Мартина Шлейера и романтический «интерлингва» Пеано) одинаково невыразительны. В любом издании Грамматики Королевской Академии непременно будут восхваления «завидного сокровища красочных, метких и выразительных слов богатейшего испанского языка», но это — чистейшее хвастовство, без всяких оснований. А тем временем эта же Королевская Академия через каждые несколько лет разрабатывает словарь, определяющий испанские слова… В универсальном языке, придуманном Уилкинсом в середине XVII века, каждое слово само себя определяет. Декарт в письме[137], датированном еще ноябрем 1629 года, писал, что с помощью десятичной цифровой системы мы можем в один день научиться называть все количества вплоть до бесконечности и записывать их на новом языке, языке цифр[138]; он также предложил создать аналогичный всеобщий язык, который бы организовал и охватил все человеческие мысли. В 1664 году Джон Уилкинс взялся за это дело.