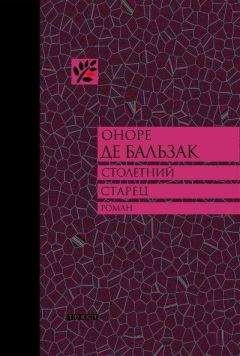Оноре Бальзак - Воспоминания двух юных жен
Дорогая моя, вернувшись домой, я с решительностью истинной Шолье распахнула окно, чтобы полюбоваться ливнем. О, если бы мужчины знали, какое неотразимое действие производят на нас героические поступки, они совершали бы подвиг за подвигом; самые трусливые преисполнились бы отваги. От всего, что я узнала о моем испанце, я была как в лихорадке. Я не сомневалась, что он на своем посту и бросит мне новое послание. Так и оказалось. На сей раз я не сожгла, а прочла его. Итак, вот первое любовное письмо, которое получила я: каждому свое, госпожа разумница.
«Луиза, я люблю вас не за вашу божественную красоту, я люблю вас не за ваш обширный ум, не за благородство ваших чувств, не за бесконечную прелесть, которую вы сообщаете всему, что вас окружает, не за вашу надменность, не за царственное презрение к людям не вашего круга, которое, впрочем, не лишает вас доброты, ибо вы милосердны, как ангел; я люблю вас, Луиза, за то, что ваше гордое величие не помешало вам снизойти до несчастного изгнанника, за то, что одним движением, одним взглядом вы даровали утешение человеку, который настолько ниже вас, что вправе надеяться только на вашу жалость и великодушие. Вы — единственная женщина в мире, которая смягчила ради меня свою суровость, и поскольку ваш благодетельный взгляд обратился на меня, когда я был жалкой песчинкой, меж тем как, будучи одним из могущественнейших людей в своем отечестве, я ни разу не встретил ничьего ласкового взора, я хочу, Луиза, чтобы вы знали: вы дороги мне, я люблю вас бескорыстно, беззаветно, так, как вы и не мечтали. Знайте же, божество, вознесенное мною превыше всех светил небесных, что есть на свете потомок сарацинов, чья жизнь принадлежит вам, что вы можете распоряжаться им, как своим рабом, что он почтет за честь исполнить любое ваше приказание. Я готов служить вам вечно единственно ради удовольствия служить вам, ради одного-единственного вашего взгляда, ради руки, которую вы однажды протянули учителю-испанцу. Теперь, Луиза, у вас есть слуга, — слуга и не более того. Нет, я не смею надеяться, что вы меня когда-нибудь полюбите; но, быть может, вы не отвергнете моей преданности. С того самого утра, когда вы улыбнулись мне, в великодушии своем угадав страдания моего сердца, одинокого и обманутого, я боготворю вас: отныне вы владычица моей жизни, царица моих мыслей, божество моего сердца, вы для меня свет, прекраснейший цветок, целебный воздух, ток моей крови, сияние моих грез. Одна мысль омрачала мое блаженство: вы не знаете о моей безграничной преданности, не знаете, что у вас есть верный раб, слепо вам повинующийся и готовый беспрекословно исполнять вашу волю, казначей — ибо все, что у меня есть, принадлежит вам, наперсник, которому вы можете доверить любой секрет, старая нянька, которой вы можете дать любое поручение, отец, у которого вы всегда можете искать защиты, друг, брат — ведь вам всего этого не хватает, я знаю. Я разгадал тайну вашего одиночества! Я осмелился писать вам лишь потому, что жаждал открыть вам ваше могущество. Примите все это, Луиза, и вы возродите меня к жизни, ибо единственное, чему я могу посвятить жизнь, это служение вам. Согласие ваше ничем вас не обременит: мне не нужно ничего, кроме радости знать, что дни мои принадлежат вам. Не говорите, что вы меня никогда не полюбите: я сам знаю, что так суждено; я буду любить вас издали, безнадежно, втайне от всех. Я хотел бы знать, согласны ли вы считать меня вашим слугой, и долго ломал голову, придумывая, как бы вы могли сообщить мне свое решение, не уронив своего достоинства; ведь я уже давно всецело принадлежу вам, хотя вы об этом и не подозреваете. Так вот, если вы согласны, будьте вечером в Итальянской опере с белой и красной камелиями — этот букет подобен крови человека, посвятившего себя служению пленительной невинности. Согласитесь — и в любую минуту, завтра и десять лет спустя, малейшее ваше желание будет тотчас с восторгом исполнено вашим слугой
Фелипе Энаресом».P.S. Дорогая моя, согласись, что знатные сеньоры умеют любить! Какая мощь африканского льва! какой внутренний жар! какая вера! какая искренность! какое величие души в смирении! Я почувствовала свою ничтожность и ошеломленно спрашивала себя: как быть?.. Великому человеку свойственно опрокидывать обыкновенные расчеты. Он прекрасен и трогателен, простосердечен и возвышен. Одно его письмо стоит сотни писем Ловласа[59] или Сен-Пре. О! вот истинная любовь без всяких «если»: либо она есть, либо ее нет, и когда она есть, она проявляется во всей своей безмерности. Вот и настал конец моему кокетству. Отвергнуть или принять! Или — или, и нет никакой возможности уклониться от ответа. Приговор обжалованию не подлежит. Это уже не Париж, это Испания или Восток: абенсераг падает на колени перед католичкой Евой[60] и отдает ей свой ятаган, коня и жизнь. Неужели я отвергну этого потомка мавров? Почаще перечитывай это испано-сарацинское письмо, моя Рене, и ты увидишь, как любовь одерживает верх над всеми хитросплетениями твоей философии. Послушай, Рене, твое письмо огорчило меня, оно насквозь проникнуто буржуазным духом. К чему лукавить? Разве не навеки стала я хозяйкой этого льва, который вместо рычания испускает смиренные благоговейные вздохи? О! как он, должно быть, рычал в своем логове на улице Ильрен-Бертен! Я знаю, где он живет, у меня есть его карточка: Ф., барон де Макюмер. Он лишил меня возможности ответить иначе, мне остается только бросить ему в лицо две камелии. Какой адской мудростью обладает чистая, настоящая, простодушная любовь! Все самое важное для женщины она свела к одному несложному движению руки. О Азия! я прочла «Тысячу и одну ночь», эта идея в ее духе: два цветка — и все сказано. Мы заменяем четырнадцать томов «Клариссы Гарлоу» одним букетом. Я вьюсь вокруг этого письма как мотылек вокруг свечи. Брать или не брать с собой камелии? Да или нет, убить или подарить жизнь? В конце концов какой-то голос крикнул мне: «Испытай его!» И я его испытаю!
XVI
От мадемуазель де Шолье к госпоже де л'Эсторад
Март.Я вся в белом, с белыми камелиями в волосах и одной белой камелией в руке; у матушки в руках букет красных камелий, если захочу, я возьму у нее один цветок. Пусть-ка он заплатит за свою красную камелию несколькими минутами сомнений; решение я приму на месте. Я очень хороша! Гриффит попросила дозволения полюбоваться мною. Торжественность этого вечера и драма моего тайного согласия покрыли мое лицо румянцем: теперь у меня на каждой щеке по две камелии: красная на фоне белой.
Час ночи.
Все любовались мною, но только он один умел боготворить меня. Увидев у меня в руках одну белую камелию, он опустил голову, а когда я взяла у матушки красную, сделался белее белой. Приехать в театр с двумя цветками я могла и случайно, но, взяв другой цветок у него на глазах, я дала ответ. Я призналась в любви! Давали «Ромео и Джульетту»[61]; ты никогда не слышала дуэта двух влюбленных из этой оперы — тебе не понять счастья двух новообращенных, которые слушают это неземное выражение нежности. Ложась в постель, я слышала гулкие шаги в боковой аллее. О! теперь, мой ангел, сердце мое в огне, голова пылает. Что он делает? О чем он думает? Есть ли у него хоть одна мысль, не связанная со мной? Правда ли, что он мой верный раб? Как это проверить? Не считает ли он, что в моем согласии есть что-то предосудительное, что я нуждаюсь в благодарности или награде? Уподобившись героиням «Кира»[62] и «Астреи»[63], я мысленно вникаю во все тонкости чувства и устраиваю разбирательства, достойные судов любви[64]. Известно ли ему, что в любви ничтожнейшие поступки женщин суть плод долгих раздумий, внутренней борьбы, проигранных сражений? О чем он думает в этот миг? Как приказать ему писать мне по вечерам обо всем, что происходит с ним в течение дня? Он мой раб, мне нужно чем-то занять его — что ж! я завалю его работой.
Воскресенье. Утро.
Я всю ночь не спала, заснула только под утро. Сейчас полдень. Я продиктовала Гриффит следующее письмо:
«Господину барону де Макюмеру.
Господин барон, я пишу вам по поручению мадемуазель де Шолье. Она желает получить находящуюся у вас копию письма своей подруги, снятую ею собственноручно. Примите уверения в совершенном почтении и проч.
Гриффит».Дорогая моя, Гриффит отправилась на улицу Ильрен-Бертен и передала эту записку моему рабу; он вложил мою программу, мокрую от слез, в конверт и вернул мне. Он подчинился. Ах, дорогая, видно, он очень дорожил этим листком! Другой отказался бы вернуть его, написав письмо, полное лести, но сарацин исполнил обещание — он подчинился. Я тронута до слез.
XVII
От мадемуазель де Шолье к госпоже де л'Эсторад
2 апреля.Вчера был чудесный день; я оделась как девушка, которая знает, что любима и хочет нравиться. По моей просьбе отец подарил мне самую красивую упряжку во всем Париже: пару серых в яблоках лошадей и наимоднейшую коляску. Я обновила свой экипаж. Под зонтиком, подбитым белым шелком, я была хороша, как цветок. На Елисейских полях я увидела моего абенсерага — он ехал мне навстречу верхом на коне изумительной красоты; мужчины, которые нынче в большинстве своем превратились в барышников, останавливались посмотреть на него, полюбоваться им. Энарес поклонился мне, я дружески и ободряюще кивнула ему, он придержал коня, и я успела сказать: «Не посетуйте, господин барон, что я потребовала обратно мое письмо, вам оно ни к чему... Вы уже превзошли эту программу, — добавила я тихо. — Все смотрят на вашего коня». — «Управляющий моим сардинским имением прислал мне его из гордости — этот арабский скакун родился в моем захолустье».