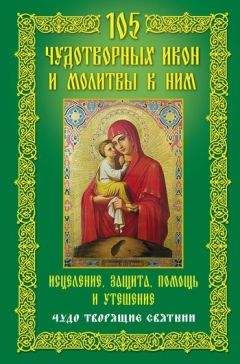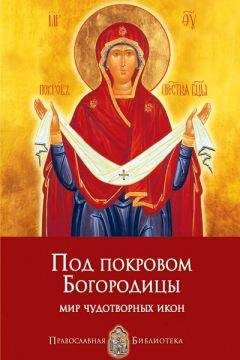Аркадий Гайдар - Школа
— А ты?
— Я-то, брат, везде пройду. Я здесь не чужой.
Старенький пароходик, замызганный шелухой и огрызками яблок, давно уже отчалил от берега, а моего товарища все еще не было видно.
Я примостился на груде ржавых якорных цепей и, вдыхая пахнущий яблоками, нефтью и рыбой прохладный воздух, с любопытством разглядывал пассажиров. Рядом со мной сидел не то дьякон, не то монах, притихший и, очевидно, старавшийся быть как можно менее заметным. Он украдкой озирался по сторонам, грыз ломоть арбуза, аккуратно выплевывая косточки в ладонь.
Кроме монаха и нескольких баб с бидонами из-под молока, на пароходе ехали два офицера, четыре милиционера, державшихся поодаль, возле штатского с красной повязкой на рукаве.
Все же остальные пассажиры были рабочие. Сгрудившись кучками, они громко разговаривали, спорили, переругивались, смеялись, читали вслух газеты. Было похоже на то, что все они между собой знакомы, потому что многие из них бесцеремонно вмешивались в чужие споры; замечания и шутки летели от одного борта к другому.
Впереди вырисовывалось Сормово. Было безветренное утро. Фабричный дым, собираясь нетающими клубами, казался отсюда черными щупальцами ветвей, раскинувшихся над каменными стволами гигантских труб.
— Эгей! — услышал я позади себя знакомый голос рябого мальчугана.
Я обрадовался ему, потому что не знал, что делать с листовками.
Он сел рядом на свернутый канат и, вынув из кармана яблоко, протянул его мне:
— Возьми. Мне грузчики полный картуз насыпали, потому что как новая листовка или газета, так я им всегда первым. Вчера целую связку воблы подарили. Им что! Сунул руку в мешок — только-то и делов. А я три воблы сам съел да две домой притащил: одну Аньке, другую Маньке. Сестры это у меня, — пояснил он и снисходительно добавил: — Дуры еще девчонки… Им только жрать подавай.
Оживленные разговоры внезапно умолкли, потому что штатский с красной повязкой, сопровождаемый милиционерами, принялся неожиданно проверять документы. Рабочие, молча доставая измятые, замусоленные бумажки, провожали штатского враждебно-холодными замечаниями.
— Кого ищут-то?
— А пес их знает.
— К нам бы в Сормово пришли, там поискали бы!
Милиционеры шли как бы нехотя; видно было, что им неловко чувствовать на себе десятки подозрительно настороженных взглядов.
Не обращая внимания на общее сдержанное недовольство, штатский вызывающе дернул бровями и подошел к монаху. Монах еще больше съежился и, огорченно разведя руками, показал на висевшую у живота кружку с надписью: «Милосердные христиане, пожертвуйте на восстановление разрушенных германцами храмов».
Штатский брезгливо усмехнулся и, отворачиваясь от монаха, довольно бесцеремонно потянул за плечи моего соседа — мальчугана.
— Документ?
— Еще подрасту, тогда запасу, — сердито ответил тот.
Пытаясь высвободиться из-под цепкой руки штатского, мальчуган дернулся, потерял равновесие и выронил кипу листовок.
Штатский поднял одну из бумажек, торопливо просмотрел ее и тихо, но зло сказал:
— Документы мал носить, а прокламации — вырос? А ну-ка, захватите его!
Но не только один штатский прочел листовку. Ветер вырвал из рассыпанной пачки десяток беленьких бумажек и разметал их по переполненной людьми палубе. Не успели еще вялые, смущенные милиционеры подойти к рябому мальчугану, как зажужжала, загомонила вся палуба:
— Корнилова бы лучше поискали!
— Монах без документа ничего, а к мальчишке привязался!
— Тут тебе не город, а Сормово.
— Ну, ну, тише вы! — огрызнулся штатский, растерянно глядя на милиционеров.
— Не нукай, не запрягал! Жандарм переодетый! Видали, как он за листовками кинулся?
Огрызок свежего огурца пролетел мимо фуражки штатского.
Стиснутые со всех сторон повскакавшими пассажирами, милиционеры растерянно оглядывались и встревоженно уговаривали:
— Не налезай, не налезай. Граждане, тише!
Внезапно заревела сирена, и с капитанского мостика кто-то отчаянно заорал:
— От левого борта… от левого борта… пароход опрокинете!
По накренившейся палубе толпа шарахнулась в противоположную сторону. Воспользовавшись этим, штатский зло выругал милиционеров и проскользнул к лестнице капитанского мостика, возле которого стояли два побледневших, взволнованных офицера
Пароход причалил, рабочие торопливо сходили на пристань. Возле меня опять очутился рябой мальчуган. Глаза его горели, в растопыренных руках он цепко держал измятый ворох подобранных листовок.
— Приходи! — крикнул он мне. — Прямо на Вариху! Ваську Корчагина спросишь, тебе всякий покажет.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
С удивлением и любопытством поглядывал я на серые от копоти домики, на каменные стены заводов, через черные окна которых поблескивали языки яркого пламени и доносилось глухое рычание запертых машин.
Был обеденный перерыв. Мимо меня прямо через улицу, паром распугивая бродячих собак, покатил паровоз, тащивший платформы, нагруженные вагонными колесами. Разноголосо хрипели гудки. Из ворот выходили толпы потных, усталых рабочих.
Навстречу им неслись стайки босоногих задирчивых ребятишек, тащивших небольшие узелки с мисками и тарелками, от которых пахло луком, кислой капустой и паром.
Кривыми уличками добрался я наконец до переулка, где была квартира Галки.
Я постучал в окно небольшого деревянного домика. Тощая седая старуха, оторвавшись от корыта с бельем, высунула красное, распаренное лицо и сердито спросила, кого мне надо.
Я сказал.
— Нету такого, — ответила она, захлопывая окно. — Жил когда-то, теперь давно уже нету.
Ошеломленный таким сообщением, я отошел за угол и, остановившись возле груды наваленного булыжника, почувствовал, как я устал, как мне хочется есть и спать.
Кроме Галки, в Сормове жил дядя Николай, брат моей матери. Но я совсем не знал, где он живет, где работает и как примет меня.
Несколько часов я шатался по улицам, с тупым упрямством заглядывая в лица проходивших рабочих. Дядю я, конечно, не встретил.
Вконец отчаявшись и почувствовав себя одиноким, никому не нужным, я опустился на небольшую чахлую лужайку, замусоренную рыбьей кожурой и кусками пожелтевшей от дождей известки. Тут я прилег и, закрыв глаза, стал думать о своей горькой судьбе, о своих неудачах.
И чем больше я думал, тем горше становилось мне, тем бессмысленнее представлялся мой побег из дома.
Но даже сейчас я отгонял мысль о том, чтобы вернуться в Арзамас. Мне казалось, что теперь в Арзамасе я буду еще более одинок: надо мной будут презрительно смеяться, как когда-то над Тупиковым. Мать будет тихонько страдать и еще, чего доброго, пойдет в школу просить за меня директора.
А я был упрям. Еще в Арзамасе я видел, как мимо города вместе с дышавшими искрами и сверкавшими огнями поездами летит настоящая, крепкая жизнь. Мне казалось, что нужно только суметь вскочить на одну из ступенек стремительных вагонов, хотя бы на самый краешек, крепко вцепиться в поручни, и тогда назад меня уже не столкнешь.
К забору подошел старик. Нес он ведро, кисть и свернутые в трубку плакаты. Старик густо смазал клейстером доски, прилепил плакат, разгладил его, чтобы не было морщин; поставив на землю ведро, оглянулся и подозвал меня:
— Достань, малый, спички из моего кармана, а то у меня руки в клейстере. Спасибо, — поблагодарил он, когда я зажег спичку и поднес огонь к его потухшей трубке.
Закурив, он с кряхтеньем поднял грязное ведро и сказал добродушно:
— Эх, старость не радость! Бывало, пудовым молотом грохаешь, грохаешь, а теперь ведро понес — рука занемела.
— Давай, дедушка, я понесу, — с готовностью предложил я. — У меня не занемеет. Я вон какой здоровый.
И, как бы испугавшись, что он не согласится, я поспешно потянул ведро к себе.
— Понеси, — охотно согласился старик, — понеси, коли так, оно вдвоем-то быстро управимся.
Продвигаясь вдоль заборов, мы со стариком прошли много улиц.
Только мы останавливались, как сзади нас собирались прохожие, любопытствовавшие поскорее узнать, что такое мы расклеиваем. Увлекшись работой, я совсем позабыл о своих несчастьях. Лозунги были разные, например: «Восемь часов работы, восемь сна, восемь отдыха». Но, по правде сказать, лозунг этот казался мне каким-то будничным, неувлекательным. Гораздо больше нравился мне большой синий плакат с густо-красными буквами: «Только с оружием в руках пролетариат завоюет светлое царство социализма».
Это «светлое царство», которое пролетариат должен был завоевать, увлекало меня своей загадочной, невиданной красотою еще больше, чем далекие экзотические страны манят начитавшихся Майн Рида восторженных школьников. Те страны, как ни далеки они, все же разведаны, поделены и занесены на скучные школьные карты. А это «светлое царство», о котором упоминал плакат, не было еще никем завоевано. Ни одна человеческая нога еще не ступала по его необыкновенным владениям.