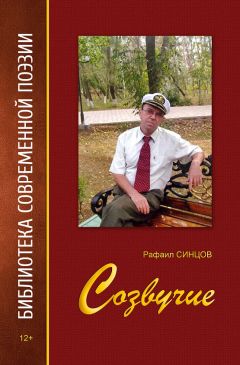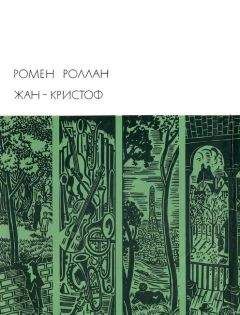Ромен Роллан - Жан-Кристоф. Том III
Она уехала. По воле случая в часе пути от города поезд, увозивший ее, встретился с тем поездом, в котором Кристоф возвращался из соседнего городка, где провел день.
Пока поезда стояли рядом, они в тиши ночи увидели друг друга из вагонного окна и не заговорили друг с другом. Да и что бы они могли сказать, кроме самых обыкновенных слов? Эти слова только опошлили бы неуловимое чувство взаимной жалости и таинственного влечения, которое родилось в них и не имело иного основания, кроме внутреннего ясновидения. В тот миг, когда они, незнакомые, обменивались последним взглядом, они увидели друг друга так, как никто из живших бок о бок с ними никогда их не видел. Все проходит — воспоминание о словах любви, о поцелуях, о самых жарких объятиях; но никогда не забывается соприкосновение двух душ, которые встретились однажды и узнали друг друга в толпе бесчувственных марионеток. Антуанетта унесла память об этом в тайниках своего сердца, сердца, окутанного печалью, посреди которой сиял, однако, скрытый свет, подобный тому, что окутывает елисейские тени в «Орфее» Глюка.
Итак, она вернулась к Оливье. И вернулась вовремя: он заболел. Этот нервный, неуравновешенный мальчик, боявшийся вымышленных болезней, теперь, захворав по-настоящему, решил не писать сестре о своей болезни, чтобы не встревожить ее. Но мысленно он звал ее, молил об ее приезде, как о чуде.
Когда чудо свершилось, он лежал в жару на койке лицейского лазарета и дремал. Он не вскрикнул, увидев ее. Сколько раз ему мерещилось, будто она входит в палату! Он поднялся на постели, открыв рот, дрожа от страха, что вдруг это опять обман. И когда Антуанетта села на кровать возле него, когда она обняла его и он прильнул к ней, когда он ощутил губами ее нежную щеку и ее руки, закоченевшие после целой ночи, проведенной в поезде, когда он наконец убедился, что это она, его сестричка, его девочка, — он заплакал. Он остался все тем же «Глупышом», каким был в детстве, и не умел иначе выражать свои чувства. Он прижимал сестру к себе, боясь, что она опять ускользнет от него. Как они изменились оба! Какой у них был болезненный вид!.. Все равно! Они снова вместе, и все вокруг точно просияло: лазарет, лицей, пасмурный день, — они обрели друг друга и теперь уж не расстанутся никогда. Прежде чем она успела сказать хоть слово, он взял с нее клятву, что она больше не уедет. Ему незачем было брать с нее клятву — нет, она больше не уедет, они слишком тяжко страдали вдали друг от друга; покойная мать была права: все лучше, чем разлука. Даже нужда, даже смерть, только бы быть вместе.
Они поспешили снять квартиру. Им хотелось вернуться в прежнюю, хотя она была очень неприглядной, но ее уже заняли. Новая квартира тоже выходила окнами во двор, однако над стеной виднелась макушка чахлой акации, и оба, брат и сестра, сразу полюбили эту вестницу полей, заточенную, как и они, в каменной тюрьме. Здоровье Оливье быстро восстановилось, — вернее, то, что для него считалось здоровьем: у другого, более крепкого человека такое состояние называли бы болезнью. Как ни тягостно было для Антуанетты пребывание в Германии, оно позволило ей скопить немного денег. Кроме того, она получила какие-то крохи за перевод немецкой книги, которую удалось пристроить в одном издательстве. Денежные заботы были на время устранены, и все складывалось отлично, только бы Оливье в конце года выдержал приемные экзамены. А вдруг он не выдержит?
Едва радость совместной жизни вошла в привычку, страх перед экзаменами снова навис над ними. Они старались не говорить на эту тему и все-таки без конца возвращались к ней. Мысль об экзаменах неотступно преследовала их, даже когда они пытались развлечься: она вдруг выплывала в концерте, посреди какой-нибудь пьесы; стоило им проснуться ночью, как она разверзалась в их сознании, точно бездна. Оливье не только страстно желал облегчить сестре бремя жизни, доказать, что она не напрасно пожертвовала ему своей молодостью, — он еще безумно боялся военной службы, которой ему не миновать, если он провалится (в те времена поступление в высшую школу освобождало от воинской повинности). С чувством непреодолимой гадливости думал он о тесном физическом и моральном общении невесть с кем, о постепенном отупении — неизбежном следствии жизни в казарме, которое он — верно или неверно — рисовал в своем воображении. Все, что было в его натуре аристократического и девственного, восставало против этой перспективы — временами сама смерть представлялась ему лучшим выходом. Можно осмеивать и даже бичевать такого рода чувства во имя общественной морали, возведенной нашим веком в религию, но было бы слепотой не понять, какие глубокие страдания причиняет потеря внутреннего одиночества во имя равенства, чересчур широко и грубо понимаемого в наши дни.
Снова начались экзамены. Оливье едва не пропустил их: он плохо себя чувствовал и так боялся волнений, через которые ему предстояло пройти, все равно, примут его или нет, что даже желал заболеть по-настоящему. На этот раз сочинение он написал неплохо. Но мучительно было ждать, пока выяснится, допущен ли он к дальнейшим экзаменам. Согласно обычаям, установившимся с незапамятных времен в стране Революции — самой косной стране на свете, экзамены происходили в июле, в самое жаркое время года; казалось, это делается нарочно, с целью доконать несчастную молодежь, и без того замученную чудовищной программой вступительных экзаменов, из которой сами судьи не знали и десятой доли. Заключения по письменной работе давались на следующий день после праздника 14 июля, сопровождаемого народными гуляньями и шумным весельем, которое так тягостно для тех, кому совсем невесело и хочется тишины. На соседней площади были построены балаганы; с утра до поздней ночи щелкали выстрелы в тире, ревела паровая карусель с деревянными лошадками, завывала шарманка. И этот дикий грохот длился целую неделю: президент республики — популярности ради — накинул горланам еще три свободных дня. Ему это ничего не стоило — он-то их не слышал. Но Оливье и Антуанетта совсем извелись: неистовый шум сверлил им мозг, они закрывали окна и сидели без воздуха в душных комнатах, затыкали уши, чтобы избавиться от назойливых, въедливых, пошленьких уличных песенок, которые с утра до ночи раздирали слух и точно молотом долбили голову.
Устные экзамены начинаются почти сразу же после того, как объявлены результаты письменных. Оливье упросил Антуанетту не присутствовать на них. Она ждала у двери и дрожала сильнее, чем он. А он, разумеется, не говорил, что доволен своими ответами. Он Изводил сестру, жалея о том, что сказал или чего не сказал.
Настал решающий день. Списки принятых вывешивали во дворе Сорбонны. Антуанетта не пустила Оливье одного. Выходя из дому, каждый из них подумал про себя, что, вернувшись, они уже будут знать и, возможно, пожалеют об этих минутах томительного ожидания, когда у них оставалась хотя бы надежда. Но вот они увидели купол Сорбонны, и ноги у них подкосились. Антуанетта, обычно такая храбрая, сказала брату:
— Ради бога, не беги так…
Оливье посмотрел на сестру — она силилась улыбнуться.
— Давай посидим минутку, — предложил он.
Он рад был бы не идти дальше. Но не успели они опуститься на скамейку, как Антуанетта сжала его руку и сказала:
— Ничего, мой мальчик, идем.
Им не сразу попался на глаза нужный список. Они просмотрели несколько, где фамилии Жанена не было. Увидев наконец его, они даже не сразу поняли: читали, перечитывали и все не могли поверить. А когда убедились, что это правда, что Жанен и Оливье — одно лицо, что Жанен принят, они, не вымолвив ни слова, бросились домой. Антуанетта схватила брата под руку, крепко стиснула его пальцы, а он оперся на нее. Всю дорогу они почти бежали, ничего не видя вокруг; когда они переходили улицу, их чуть не раздавил экипаж.
— Милый мой!.. — Милая моя!.. — твердили они.
Они поднялись по лестнице, перескакивая через несколько ступенек. Очутившись у себя, они бросились друг другу в объятия. Антуанетта взяла брата за руку и подвела его к портретам отца и матери, которые висели у ее кровати, в уголке, превращенном в некое святилище; опустившись на колени, брат и сестра помолились и поплакали потихоньку.
Антуанетта велела принести из ресторана праздничный обед, но оба не притронулись ни к чему — им не хотелось есть. Весь вечер Оливье просидел у ног сестры или у нее на коленях, а она ласкала его, как малого ребенка. Они почти не разговаривали. У них даже не хватало сил чувствовать себя счастливыми — оба были совершенно разбиты. Они легли в девять часов и заснули крепким сном.
На следующий день у Антуанетты страшно болела голова, но с сердца свалилась такая тяжесть! Оливье впервые почувствовал, что дышит полной грудью. Он был спасен. Антуанетта спасла его, она выполнила свою задачу, а он оправдал надежды, которые сестра на него возлагала!.. Впервые за долгие-долгие годы они позволили себе понежиться. До полудня они пролежали в постели, переговариваясь через открытую дверь; они видели друг друга в зеркале, видели, какие у них счастливые и отекшие от усталости лица; они улыбались друг другу, посылали воздушные поцелуи, снова дремали, и тот, кто просыпался, смотрел, как спит другой, — оба такие измученные, обессилевшие, что и переговариваться могли только нежными возгласами.