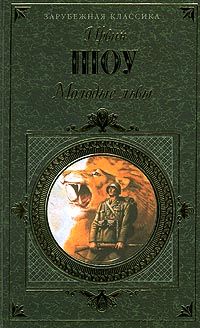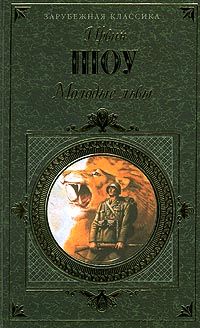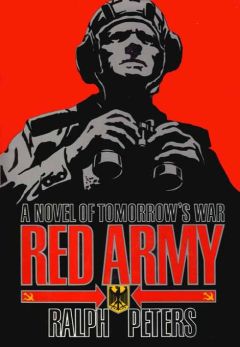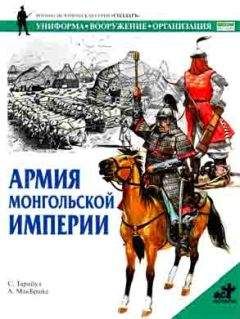Ирвин Шоу - Молодые львы
Умирать Христиан отнюдь не собирался. За последние пять лет он слишком многому научился. Он еще пригодится после войны, и нет смысла бросать все на произвол судьбы. Года три-четыре придется, конечно, жить ниже травы и тише воды, быть любезным и угождать победителям. Видимо, в его городишко опять станут приезжать туристы покататься на лыжах, может быть, американцы построят поблизости большие дома отдыха, и он получит работу, будет учить американских лейтенантов, как делать «плуг» на лыжах… А потом… Ну что ж, потом будет видно. Человек, который научился так искусно убивать и справляться с такими горячими Головами, обязательно пригодится через пять лет после войны, если только он сумеет сохранить свою жизнь…
Он не знал, как обстоят дела в его родном городе, но, если ему удастся добраться туда до прихода войск, он мог бы надеть гражданскую одежду, а отец постарался бы придумать какую-нибудь историю… До дому было не так уж далеко. Он находился в самом сердце Баварии, и на горизонте уже виднелись горы. «Наконец-то мы стали воевать с удобствами, — подумал он с мрачным юмором. — Свой последний бой солдат теперь может вести в собственном палисаднике».
У ворот стоял только один часовой. Это был толстый маленький человечек лет пятидесяти пяти. С винтовкой в руке и с фольксштурмовской повязкой на рукаве, он выглядел несчастным и чувствовал себя явно не в своей тарелке. «Фольксштурм![107] — с пренебрежением подумал Христиан. — Блестящая идея!» «Гитлеровская богадельня», как горько шутили в народе. Газеты и радио трубили о том, что каждым мужчина, сколько бы лет ему ни было — пятнадцать или семьдесят, теперь, когда противник грозит его дому, будет драться с захватчиками как разъяренный лев. Эти привыкшие к сидячему образу жизни, склеротические господа из фольксштурма явно не знали, что они должны воевать как львы. Достаточно было им услышать один выстрел, и целый батальон таких вояк с бегающими глазами и поднятыми вверх руками можно было брать в плен. Еще один миф — будто можно оторвать пожилых немцев от канцелярских столов и подростков от школьной скамьи и за две недели сделать из них солдат. «Пышные фразы, — думал Христиан, глядя на терзаемого страхом толстого человечка в плохо подогнанной форме, — свели нас всех с ума. Пышные фразы и мифы — против танковых дивизий, тысяч самолетов и орудий, которых снабжают горючим и боеприпасами заводы всего мира. Гарденбург давно все понял, но Гарденбург покончил жизнь самоубийством. Да, после войны выиграют те, кто очистится от напыщенного красноречия и раз и навсегда сделает себе прививку против всяких мифов».
— Хайль Гитлер, — сказал часовой, неуклюже козыряя.
«Хайль Гитлер». Еще одна шутка. Христиан не потрудился ответить на приветствие.
— Что здесь происходит? — спросил он.
— Ждем. — Часовой пожал плечами.
— Чего?
Часовой опять пожал плечами и смущенно улыбнулся.
— Какие новости? — спросил он.
— Только что капитулировали американцы, — сказал Христиан. — Завтра сдаются русские.
На мгновение часовой почти поверил ему. Доверчивая радостная улыбка пробежала по его лицу. Потом он понял, что Христиан шутит.
— Вы, видно, в хорошем настроении, — печально сказал он.
— Да, я в прекрасном настроении, — сказал Христиан. — Я только что вернулся из весеннего отпуска.
— Как вы думаете, будут американцы здесь сегодня? — с тревогой спросил часовой.
— Они могут прийти через десять минут или через десять дней, или через десять недель. Кто знает, что станут делать американцы?
— Надеюсь, они придут скоро, — сказал часовой. — Уж лучше они, чем…
«И этот тоже», — подумал Христиан.
— Знаю, — резко оборвал он. — Они лучше русских и лучше французов.
— Так говорят все, — уныло сказал часовой.
— Боже мой, — потянул носом Христиан. — Как вы можете выносить такую вонь?
Часовой кивнул головой.
— Да, вонь ужасная, но я уже неделю здесь и больше ее не замечаю.
— Только неделю? — удивился Христиан.
— Здесь стоял целый эсэсовский батальон, но неделю назад их сняли, а нас прислали взамен. Только одну роту, — удрученно сказал часовой. — Мы рады, что пока хоть живы.
— Что у вас там? — Христиан кивнул головой в ту сторону, откуда шло зловоние.
— Обычная история. Евреи, русские, несколько политических, много людей из Югославии, Греции и еще откуда-то. Два дня назад мы их всех заперли в бараках. Они догадываются о том, что творится вокруг, и становятся опасными. А у нас только одна рота. При желании они могли бы расправиться с нами за пятнадцать минут. Их здесь тысячи. Час назад они подняли невероятный шум. — Он повернулся назад и с тревогой стал вглядываться в закрытые на замок бараки. — Смотрите-ка, ни звука. Один бог знает, что они нам готовят.
— Зачем же вы здесь остаетесь? — удивился Христиан.
Часовой пожал плечами, на губах его появилась все та же болезненная, глуповатая улыбка.
— Не знаю. Ждем.
— Откройте ворота, — сказал Христиан. — Я хочу войти во двор.
— Вы хотите войти во двор? — недоверчиво спросил часовой.
— Зачем?
— Я составляю список домов отдыха для штаба организации «В веселье сила», в Берлине, — ответил Христиан, — и мне посоветовали включить этот лагерь. Откройте же. Мне надо чего-нибудь поесть и посмотреть, нельзя ли здесь позаимствовать велосипед.
Часовой дал знак другому часовому на вышке, который внимательно следил за Христианом. Ворота медленно открылись.
— Велосипеда вы здесь не найдете, — сказал фольксштурмовец. — Эсэсовцы, когда уходили отсюда на прошлой неделе, взяли с собой все, что имеет колеса.
— Посмотрим, — сказал Христиан.
Пройдя через двойные ворота, он направился к административному корпусу, симпатичному, свежевыбеленному каменному домику в тирольском стиле, с зеленой лужайкой и с высоким флагштоком; на котором трепетал под свежим утренним ветерком флаг. Чем дальше Христиан шел, тем сильнее становился запах. Из бараков слышался низкий, приглушенный шум голосов, звучавших как-то не по-человечески. Казалось, этот шум производит какой-то диковинный музыкальный инструмент, потому что звуки были слишком бесформенны и неприятны, чтобы принадлежать человеческому голосу. Все окна были заколочены досками, кругом не было видно ни души.
Христиан поднялся по тщательно вымытым каменным ступеням и вошел в дом.
Он обнаружил кухню. Повар в военной форме, мрачный шестидесятилетний старик, дал ему колбасы и эрзац-кофе, ободряюще сказав при этом:
— Наедайся как следует, парень. Кто знает, когда нам снова удастся поесть?
В коридорах беспокойно толкались несколько мешковатых фольксштурмовцев, одетых в форму с чужого плеча. У них было оружие, но держали они его робко и с выражением явного отвращения. Они тоже, как и часовой у ворот, чего-то ждали. «Они пристально вглядывались в Христиана печальными глазами, когда он проходил мимо, и он слышал шепот неодобрения, осуждающий его за то, что он молод и проигрывает войну… Гитлер всегда хвастливо говорил, что его сила в молодежи, и теперь эти эрзац-солдаты, оторванные от родных домов в самом конце войны, скривив свои старые лица в пренебрежительной гримасе, показывали, что они думают об этом отступающем поколении, которое довело их до такого положения.
Выпрямившись, слегка придерживая автомат, с холодным, застывшим лицом, Христиан шел по коридорам мимо этих растерянных людей. Подойдя к кабинету коменданта, он постучал и вошел. Заключенный в полосатой одежде шваброй мыл пол, в приемной за столом сидел ефрейтор. Дверь в кабинет была открыта, и человек, сидевший там за столом, сделал Христиану знак войти, как только услышал, что тот сказал: «Я хотел бы поговорить с комендантом».
Такого старого лейтенанта Христиану еще не приходилось видеть. На вид ему было далеко за шестьдесят, лицо его казалось вылепленным из слоистого сыра.
— У меня нет ни одного велосипеда, — сказал он надтреснутым голосом в ответ на просьбу Христиана. — У меня ничего нет. Даже продуктов. Эсэсовцы не оставили нам ничего. Только приказ продолжать управление лагерем. Вчера я связывался с Берлином, и какой-то идиот по телефону велел мне немедленно уничтожить всех заключенных. — Лейтенант невесело засмеялся. — Одиннадцать тысяч человек. Легко сказать! И с тех пор я ни с кем не могу связаться. — Он пристально посмотрел на Христиана. — Вы с фронта?
Христиан улыбнулся.
— Фронт — это не совсем то слово.
Лейтенант вздохнул. Его лицо было бледно и измято.
— В прошлой войне все было иначе. Мы отступали в полном порядке. Вся моя рота вступила в Мюнхен все еще с оружием в руках. Тогда было гораздо больше порядка, — сказал он, и в его тоне явственно прозвучало обвинение новому поколению Германии, которое не умело проигрывать войну, как их отцы, сохраняя полный порядок.