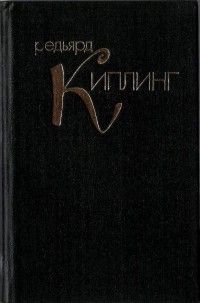Редьярд Киплинг - Рассказы
— Ты слишком надрываешься, Бобби, — сказал ему ротный. — Мог бы передоверить часть работы нам. Ты так надсаживаешься, будто должен работать за нас всех. Передохни немного.
— Ладно, — сказал Бобби. — Я и впрямь несколько устал.
Ривир озабоченно посмотрел на него, но ничего не сказал.
В эту ночь по лагерю мелькали фонари; ходили слухи, которые подняли людей с постелей и заставили сгрудиться у дверей палаток. Чавкали по грязи босые ноги носильщиков, раздавался стремительный топот копыт.
— Что случилось? — спросили двадцать палаток, и по двадцати палаткам разнесся ответ:
— Вик захворал.
Когда эту новость сообщили Ривиру, он застонал:
— Заболей кто угодно, кроме Бобби, я бы смирился. Прав оказался полковой старшина.
— Нет, я не поддамся, — задыхаясь, шептал Бобби, когда его поднимали с носилок. — Нет, я не поддамся. — И добавил с глубочайшей уверенностью: — Понимаете, мне никак нельзя.
— Конечно, нет, если это только в моих силах, — сказал старший врач, который тотчас примчался из офицерского собрания, бросив на середине обед.
Он бок о бок с полковым врачом отвоевывал у смерти Бобби Вика. В разгар хлопот их прервало появление обросшего призрака в небесно-сером халате; призрак глядел на постель и причитал: «Ах ты, господи! Неужто это он!» — до тех пор, пока разгневанный санитар не прогнал его прочь.
Если б уход врачей и жажда жизни могли помочь, Бобби был бы спасен. Он и так целых три дня сопротивлялся смерти, отчего нахмуренный лоб старшего врача разгладился.
— Мы его спасем, — сказал он, и полковой врач, который хоть и приравнивался по рангу к капитану, был юн душой, выскочил из палатки на свет божий и, не помня себя от радости, заплясал по грязи.
— Нет, я не поддамся, — стойко шептал Бобби Вик на исходе третьего дня.
— Молодцом! — сказал старший врач. — Так держать, Бобби!
А вечером серые тени сгустились вокруг губ Бобби, и он в изнеможении отвернулся к стене. Старший врач свел брови.
— Я жутко устал, — сказал Бобби чуть слышно. — Какой смысл пичкать меня лекарствами? Я… больше не… хочу их… Оставьте меня.
Жажда жизни покинула Бобби, и он охотно отдался медленно накатывавшей на него смертной волне.
— Мы напрасно стараемся, — сказал старший врач. — Он не хочет жить. Бедный мальчик, он ищет смерти. — И врач высморкался.
А за полмили от госпиталя полковой оркестр исполнял увертюру, начинался концерт: солдат уверили, что Бобби вне опасности. До Бобби донеслось громыханье медных тарелок и вой рожков.
Я радость знал, я знал печаль
И в горе не сробею.
Не любишь. Что ж… Скажи: прощай
И уходи скорее.
По лицу юноши промелькнуло выражение крайней досады, он попытался тряхнуть головой.
— В чем дело, Бобби? — нагнулся к нему старший врач.
— Только не этот вальс, — забормотал Бобби. — Только не наш… тот наш с ней… Мама, милая…
Произнеся эту загадочную фразу, он погрузился в забытье, а на следующее утро, так и не приходя в себя, умер.
Ривир, у которого веки стали совсем красными, а нос побелел, зашел в палатку Бобби — написать папе Вику письмо — письмо, которое неминуемо пригнет к земле седую голову бывшего комиссара Чхота-Балданы, ибо горя горше ему не пришлось испытать за всю его жизнь. Немногочисленные бумаги Бобби в беспорядке валялись по столу, среди них нашлось недописанное письмо. Оно обрывалось на предложении: «Так что, как видишь, любимая, опасаться нечего: пока я знаю, что ты любишь меня, а я тебя, со мной ничего не случится».
Ривир провел в палатке час. Когда он вышел, глаза его покраснели еще пуще.
* * *Рядовой Конклин, примостившись на опрокинутом ведре, слушал музыку, которую ему доводилось нередко слышать в последнее время. Рядовой Конклин только что пошел на поправку и требовал особо бережного к себе отношения.
— Ишь ты! — сказал рядовой Конклин. — Еще один офицеришка окочурился.
В тот же миг он слетел с ведра, а из глаз его посыпался сноп искр.
Высоченный детина в небесно-сером халате разглядывал его с нескрываемым омерзением.
— Бесстыжий ты, Конки! Офицеришка? Офицеришка окочурился, говоришь? Я тебя научу, как его обзывать. Ангел! Всамделишный ангел окочурился! Вот как!
Санитар счел кару настолько справедливой, что не отправил рядового Дормера в постель.
МЭ-Э, ПАРШИВАЯ ОВЦА…[24]
Перевод М. Кан
Мэ-э, паршивая овца.
Дай хоть шерсти клок!
Да, сэр, да, сэр, — три мешка,
Полон каждый мешок.
Хозяйке — мешок, и хозяину тоже,
И кукиш — мальчишке: быть плаксой негоже.
Считалочка [25][26]Взгляни, как публика грустит,
Покуда Панч за сценой скрыт.
Но раздается голосок —
Он хрипловат и так высок.
От всей души смеются люди —
На ширме появилась Джуди.
Дж. Свифт. «Ода Панчу»МЕШОК ПЕРВЫЙ
«Когда я в отчем доме жил, то мне жилось получше».
Панча укладывали сообща — айя, хамал и Мита, рослый, молодой сурти в красном с золотом тюрбане. Джуди давно подоткнули одеяльце, и она сонно посапывала за пологом от москитов. Панчу же позволили не ложиться до после обеда. Вот уже дней десять поблажки так и сыпались на Панча, и взрослые, населяющие его мир, смотрели добрей на его замыслы и свершения, по преимуществу опустошительные, точно смерч. Он сел на край кровати и независимо поболтал босыми ногами.
— Панч-баба, бай-бай? — с надеждой сказала айя.
— Не-а, — сказал Панч. — Панч-баба хочет сказку, как жену раджи превратили в тигрицу. Ты, Мита, рассказывай, а хамал пускай спрячется за дверью и будет рычать по-тигриному в страшных местах.
— А не разбудим Джуди-баба? — сказала айя.
— Джуди-баба и так разбудилась, — пропищал голосишко из-за полога. — Жила-была в Дели жена раджи. Говори дальше, Мита. — И не успел Мита начать, как она вновь уснула крепким сном.
Никогда еще эта сказка не доставалась Панчу ценой столь малых усилий. Тут было над чем призадуматься. Да и хамал рычал по-тигриному на двадцать разных голосов…
— Стой! — повелительно сказал Панч. — А что же папа не идет сказать кого-я-сейчас-отшлепаю?
— Панч-баба уезжает, — сказала айя. — Еще неделя, и некому будет больше дергать меня за волосы. — Она тихонько вздохнула, ибо очень дорог был ее сердцу хозяйский мальчик.
— На поезде, да? — сказал Панч, становясь ногами на кровать. — В Гхаты и по горам, прямо в Насик, где поселилась тигрица, бывшая жена раджи?
— Нет, маленький сахиб, — сказал Мита и посадил его себе на плечо. — В этом году — не в Насик. На берег моря, где так хорошо швырять в воду кокосовые орехи, а оттуда — за море на большом корабле. Возьмете Миту с собой в Белайт?
— Всех возьму, — объявил Панч, высоко вознесенный сильными руками Миты. — Миту, айю, хамала, Бхини-который-смотрит-за-садом и Салам-капитан-сахиба, заклинателя змей.
— Велика милость сахиба, — сказал Мита, и не было в его голосе усмешки. Он уложил маленького человека в постель, а айя, присев в лунном квадрате у порога, принялась убаюкивать его бормотанием, нескончаемым и певучим, как литания в парельской католической церкви. Панч свернулся клубочком и заснул.
Утром Джуди подняла крик, потому что в детскую забралась крыса, и замечательная новость вылетела у Панча из головы. Хотя не так уж важно, что он ей не сказал, ведь ей шел всего четвертый год, ей было все равно не понять. Зато Панчу сравнялось пять лет, и он знал, что в Англию ехать куда интересней, чем в Насик.
И вот продали карету и продали пианино, оголились комнаты, меньше стало посуды, когда садились за стол, и папа с мамой подолгу совещались, разбирая пачку конвертов с роклингтонским штемпелем.
— Хуже всего, что ни в чем нет твердой уверенности, — поглаживая усы, говорил папа. — Письма-то, вообще говоря, производят самое приятное впечатление, условия тоже вполне приемлемы…
Хуже всего, что дети будут расти без меня, думала мама, хотя вслух так не говорила.
— Мы не одни — сотни в таком же положении, — с горечью говорил папа. — Ничего, милая, пройдет пять лет, и ты опять поедешь домой.
— Панчу тогда будет десять, Джуди — восемь. Ох, как долго, как страшно долго будет тянуться время! И потом, их придется оставить на чужих людей.
— Панч у нас человек веселый. Такой сыщет себе друзей повсюду.