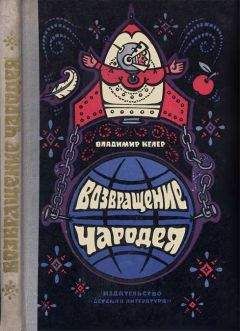Владимир Набоков - 1930 Возвращение Чорба
— Не поминай лихом, — сказал Берг, уже стоя на панели, — будь ты на моем месте...
Антон Петрович захлопнул дверь. У него с самого начала зрела потребность хлопнуть какой-нибудь дверью. От грохота зазвенело в ушах. Только теперь, поднимаясь по лестнице, он заметил, что лицо мокро от слез и что остановить слезы нет никакой возможности, но нужно было торопиться. Он бегом добрался до верху, и, проходя через переднюю, опять услышал шум воды. Вместе с этим шумом доносился голос Тани. Она в ванной громко пела. Она еще ничего не знала. Антон Петрович выпустил дыхание и вернулся в спальню. Обе постели были открыты, и на жениной розовела ночная сорочка, а на диване были разложены вечернее платье и шелковые чулки, — она, очевидно, собралась идти танцевать с Бергом. Антон Петрович вынул из грудного карманчика великолепное самопишущее перо. “Я не могу тебя видеть. Если я тебя увижу, то не ручаюсь за себя. — Он писал стоя, неловко согнувшись над туалетным столом. Монокль помутился от крупной слезы... буквы плясали... — Пожалуйста, уходи. Я тебе оставляю пока сто марок. Переговорю завтра с Наташей. Переночуй у нее сегодня или в гостинице, — только, пожалуйста, не оставайся больше здесь”. Он кончил писать и приставил лист к зеркалу, на видном месте. Рядом положил стомарковый билет. И снова, проходя через переднюю, он услышал голос жены. Она в ванной пела, — голос у нее был цыганского пошиба, милый голос, счастье, летний вечер, гитара... она поет, щурясь, на подушке посреди комнаты... и Антон Петрович со вчерашнего дня жених, счастье, летний вечер, ночная бабочка на потолке, я тебя бесконечно люблю, для тебя я отдам свою душу... “Какое безобразие! Какое безобразие!” все повторял он, идя по улице. Было очень тепло и звездисто. Все равно куда идти. Теперь, вероятно, она уже вышла из ванны и все поняла. Антона Петровича передернуло: перчатка. В кувшине плавает коричневым комочком совсем новая перчатка. Он пошел быстрее и на ходу крикнул, так что вздрогнул прохожий. Увидев огромные смутные тополя и площадь, он подумал: где-то тут живет Митюшин. Антон Петрович позвонил ему по телефону из кабака, который обступил его, как сон, и снова отошел, удаляясь, как задний огонь поезда. Митюшин впустил его, но так как был сильно навеселе, сначала не обратил внимания на его искаженное лицо. В туманной комнатке находился неизвестный Антону Петровичу господин, а на диване, спиной к столу, лежала черноволосая дама в красном платье и, по-видимому, спала. На столе блестели бутылки. Антон Петрович попал на именины, но он так и не понял, чьи это были именины, — Митюшина ли, спящей дамы или неизвестного господина, оказавшегося русским немцем со странной фамилией Гнушке. Митюшин, сияя необыкновенно розовым лицом, познакомил его с Гнушке и, указав кивком на полную спину спящей дамы, сказал в воздух: “Позвольте, Анна Никаноровна, вам представить моего большого друга”. Дама не шелохнулась, чему, впрочем, Митюшин ничуть не удивился, словно он и не ожидал, что она проснется. Вообще все это было слегка нелепо, как бывает во сне: пустая бутылка из-под водки с воткнутой в горлышко розой, доска с начатой шахматной партией, спящая дама, пьяный Митюшин, пьяный, но совершенно спокойный Гнушке...
— Пей, — сказал Митюшин и вдруг поднял брови. — Что с тобой, Антон Петрович? Морда у тебя, как мел.
— Да, пейте, — с какой-то глупой серьезностью проговорил Гнушке, длиннолицый человек в высоком воротнике, похожий на черную таксу.
Антон Петрович залпом выпил полчашки водки и сел.
— Теперь рассказывай, что случилось, — сказал Митюшин. — Не стесняйся Генриха, — он самый честный человек на свете. Мой ход, Генрих, и знай, что, если ты сейчас хлопнешь моего слона, я тебе дам мат в три хода. Ну, валяй, Антон Петрович.
— Это мы сейчас посмотрим, — сказал Гнушке, выправляя манжету. — Ты забыл пешку на аш пять.
— Сам ты аш пять, — сказал Митюшин. — Антон Петрович сейчас будет рассказывать.
От водки все вокруг заходило ходуном: шахматная доска тихо полезла на бутылки, бутылки поехали вместе со столом по направлению к дивану, диван со спящей дамой двинулся к окну, окно тоже куда-то поехало. И это проклятое движение было как-то связано с Бергом, и нужно было положить этому конец, покончить с этим безобразием, растоптать, разорвать, убить.
— Я пришел к тебе, чтобы ты был моим секундантом, — начал Антон Петрович и смутно почувствовал, что в его словах есть безграмотность, но не был в силах это поправить.
— Понимаю, — сказал Митюшин, косясь на шахматную доску, над которой нависла, шевеля пальцами, рука Гнушке.
— Нет, ты слушай меня, — с тоской воскликнул Антон Петрович, — нет, ты слушай! Не будем больше пить. Это серьезно, серьезно.
Митюшин уставился на него блестящими голубыми глазами.
— Брось шахматы, Генрих, — сказал он, не глядя на Гнушке, — тут идет серьезный разговор.
— Я собираюсь драться, — прошептал Антон Петрович, стараясь взглядом удержать стол, который все плыл, все плыл куда-то. — Я хочу убить одного человека. Его зовут Берг, ты, кажется, встречал его у меня. Не стану объяснять причину...
— Секунданту можно, — сказал Митюшин.
— Простите, что вмешиваюсь, — заговорил вдруг Гнушке и поднял указательный палец. — Вспомните, что сказано: не убий!
— Этого человека зовут Берг, — произнес Антон Петрович. — Ты, кажется, знаешь его. И вот, мне нужно двух секундантов.
— Дуэль, — сказал Гнушке.
Митюшин толкнул его локтем: “Не перебивай, Генрих”.
— Вот и все, — шепотом докончил Антон Петрович и, опустив глаза, слабо потеребил ленточку монокля.
Молчание. Ровно посапывала дама на диване. По улице пронесся гудок автомобиля.
— Я пьян, и Генрих пьян, — пробормотал Митюшин, — но, по-видимому, случилось что-то серьезное. — Он покусал костяшки руки и оглянулся на Гнушке. — Как ты считаешь, Генрих? — Гнушке вздохнул.
— Вот вы оба завтра пойдете к нему, — заговорил опять Антон Петрович. — Условьтесь о месте и так дальше. Он мне не дал своей карточки. По закону он должен был мне дать свою карточку. Я ему бросил перчатку.
— Вы поступаете, как благородный и смелый человек, — вдруг оживился Гнушке. — По странному совпадению, я несколько знаком с этим делом. Один мой кузен был тоже убит на дуэли.
“Почему — тоже? — тоскливо подумал Антон Петрович. — Неужели это предзнаменование?”
Митюшин отпил из чашки и бодро сказал:
— Как другу — не могу отказать. Утром пойдем к господину Бергу.
— Насчет германских законов, — сказал Гнушке. — Если вы его убьете, то вас посадят на несколько лет в тюрьму; если же вы будете убиты, то вас не тронут.
— Я все это учел, — кивнул Антон Петрович.
И потом появилась опять прекрасная самопишущая ручка, черная блестящая ручка с золотым нежным пером, которое в обычное время, как бархатное, скользило по бумаге, но теперь рука у Антона Петровича дрожала, теперь, как палуба, ходил стол... На листе почтовой бумаги, данном ему Митюшиным, Антон Петрович написал Бергу письмо, трижды назвал Берга подлецом и кончил бессильной фразой: один из нас должен погибнуть.
И потом он зарыдал, и Гнушке, цокая языком, вытирал ему лицо большим платком в красных квадратах, и Митюшин показывал на шахматную доску, глубокомысленно повторяя: “Вот ты его, как этого короля — мат в три хода и никаких гвоздей”. И Антон Петрович всхлипывал, слабо отклоняясь от дружеских гнушкиных рук, и повторял с детскими интонациями: “Я ее так любил, так любил”.
И рассветало.
— Значит, в девять часов вы будете у него, — сказал Антон Петрович и пошатываясь встал со стула.
— Через пять часов мы будем у него, — как эхо, отозвался Гнушке.
— Успеем выспаться, — сказал Митюшин.
Антон Петрович разгладил свою шляпу, на которой все время сидел, поймал руку Митюшина, подержал ее, поднял и почему-то прижал ее к своей щеке.
— Ну что ты, ну что ты, — забормотал Митюшин и, как давеча, обратился к спящей даме: — Наш друг уходит, Анна Никаноровна.
На этот раз она шелохнулась, вздрогнула спросонья, тяжеловато повернулась. У нее было полное мятое лицо с раскосыми, чересчур подведенными глазами. “Вы бы, господа, больше не пили”, — спокойно сказала она и опять повернулась к стене.
Антон Петрович нашел на углу сонный таксомотор, который, как дух, понес его через пустыни светающего города и уснул у его двери. В передней он встретил горничную Эльсбет: она, разинув рот, недобрыми глазами посмотрела на него, хотела что-то сказать, но раздумала и, шлепая ночными туфлями, пошла по коридору.
— Постойте, — сказал Антон Петрович. — Моя жена уехала?
— Это стыд, — внушительно проговорила горничная, — это сумасшедший дом. Тащить ночью сундуки, все перевернуть.
— Я вас спрашиваю, уехала ли моя жена? — тонким голосом закричал Антон Петрович.
— Уехала, — угрюмо ответила Эльсбет.