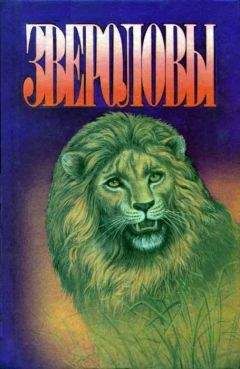Джон Пристли - Сэр Майкл и сэр Джордж
— Все дело в том, — продолжал Чепмен, — что за этим кроется. Может быть, они хотят от кого-то избавиться? Если так, кого ликвидируют, нас или Дискус? Я уверен, что в финансовом отношении у них дело обстоит благополучней, чем у нас. Вам известно, директор, что я указывал…
— А я, Дадли, тоже указывал, и не один, а десятки раз, что у нас иные финансовые источники. Когда Джордж Дрейк бесстрашно отдает распоряжение приобрести сотню промокашек, он тратит государственные средства. А мы добрую половину субсидий получаем помимо казначейства. Благодаря мне, — продолжал он, намеренно хвастливо, чтобы все подумали, будто он вовсе не хвастает, хотя на деле он именно хотел прихвастнуть, — моей редкой способности убеждать людей, не говоря о том, что я выдержал два кошмарных обеда и два скучнейших вечера в моей жизни, мы получили щедрые пожертвования от двух крупных фондов. — Он оглядел собравшихся. — Дадли, конечно, прекрасно это знает. Кому же знать, как не ему? Я подчеркиваю это специально для вас. Я стараюсь вселить в вас смелость, силу, веру и надежду. Что скажете?
— Боюсь, до сих пор это вам не удавалось, — сухо заметила Эдит Фробишер.
— Хорошо, допустим. Ну так я вам скажу, в чем наша беда. И никакие парламентские запросы тут ни при чем, я их и в грош не ставлю. Мы скучно живем, и что ни день — все скучнее. Мы зеваем над лужами теплого чая. А надо хлебнуть чего-нибудь покрепче и быть веселыми, как черти. Смелость! Блеск! Мы должны сейчас же, не сходя с места, придумать что-нибудь такое, от чего Джордж Дрейк и его покровители из Министерства просвещения подожмут хвосты. Заметьте, я говорю «мы», а не «вы». Я и себя признаю виноватым. И я тоже нагонял скуку. И меня поразил этот английский вирус, или не знаю, отчего там люди становятся нудными автоматами. Но если я в последнее время работал плохо, то вы, друзья мои, — еще хуже. Сегодня я все утро — помилуй меня Бог — просматривал дополненные доклады, которые по моей просьбе собрала, перепечатала и размножила мисс Бэри. Я словно плутал в липком тумане. Вы знаете, что ваши доклады нагоняют тоску, а пробовали вы читать чужие? Я хотел бы преподнести их в дар Дискусу. А теперь, дети мои, Бога ради, забудьте об этом несчастном парламентском запросе, о нем, на мой взгляд, и говорить не стоит, и придумайте для Комси что-нибудь смелое, веселое, блестящее и красивое. И не воображайте, что я буду сидеть сложа руки. Для начала я завтра же побываю у этой сумасшедшей, набитой деньгами старухи, которая уже отказала Дискусу. Признаться, год назад я и близко к ней не подошел бы. Но теперь я чувствую, что нам никак нельзя упустить даже эту сомнительную возможность. И вы все должны это чувствовать. Будьте отчаянными, но веселыми, как кельты. Нет, Дадли, нет, Джеф, хватит, совещание окончено. Заключительное слово я люблю оставлять за собой, и вы его уже выслушали.
Он встал, отошел и отвернулся, пока они гуськом выходили из кабинета. Потом подошел к шкафчику, налил полстакана виски, разбавил его на треть водой, сделал добрый глоток, резко повернулся и посмотрел на Шерли. Он знал, что она еще здесь, так как заранее попросил ее задержаться после совещания.
— Ну, Шерли, как вы считаете, пронял я их?
— Не знаю, — сказала она медленно и едва слышно. — Но, честное слово, сэр Майкл, вы говорили просто замечательно. Поверьте, если бы со мной кто-нибудь так поговорил… — И она умолкла.
«Да, чертенок ты этакий! — страстно воскликнул он про себя. — Пора мне поговорить с тобой!» Такие жгучие искры порой вдруг вспыхивали во мраке его души: страсть, жившая в нем, стремилась на волю. Древние греки были правы: это возмездие, ужасный дар неумолимой Афродиты, мстящей за то, что ею так долго пренебрегали. (Он легко мог представить себе, как все женщины, с которыми он проводил вечера, хором молят богиню покарать его.) Конечно, стоит провести с этой девушкой самое большее час-другой в кровати или на кровати, и чары рассеются. Но пока что он в их власти, хоть в остальном и сохранил рассудок.
— Не хотите ли выпить, Шерли?
— А вы думаете, это можно?
— Иначе я не стал бы вам предлагать. Но вы, конечно, не обязаны пить, точно так же, как не обязаны отказываться. Здесь у нас полная свобода.
Он сказал это с такой горечью, что она удивленно вскинула на него глаза.
— Ну хорошо, — сказала она. — Я выпью стаканчик хереса. Благодарю вас, сэр Майкл.
Наливая ей херес, он мрачно раздумывал о своем затруднительном положении. Он еще не предлагал ей встретиться где-нибудь после работы — этот лед должен быть сломан завтра во время поездки в Беркшир, — но уже многое знал о ней. И все, что знал, было не в его пользу. Она оказалась беспредельно, непробиваемо добродетельной, словно не принадлежала к поколению, о котором так шумят газеты и телевидение. Она готова была в любую минуту уйти с работы, а значит, исчезнуть с его горизонта, как только какое-нибудь его слово или поступок покажется ей обидным. Она вовсе не глупа — она сообразительна и разгадает малейшее его посягательство, — но ее удивительное лицо не казалось по-настоящему умным. А работала она так, что в сравнении с ней мисс Тилни была настоящим чудом: всю душу выматывала своей медлительностью, своей тупостью. Жила она в каком-то ужасном квартале на северной окраине города среди целого леса телевизионных антенн; к тому ж она единственное дитя — вот ведь повезло! — у смешного, доброго старика отца, младшего кассира в какой-то фармакологической фирме, и неугомонной любящей мамаши, которая непостижимым образом зачала и произвела на свет — один Бог знает, как и почему, — это золотоволосое чудо, посланное ему в наказание Афродитой. И вот он, Майкл Стратеррик, который уверенно и быстро мог совершенно преобразить стольких холодных и верных жен, среди которых были и сливки общества, в покорных и страстных рабынь, теперь, очарованный, как восемнадцатилетний юноша, не знает, что делать и что сказать.
Он подал ей бокал с хересом и, только бы хоть как-нибудь коснуться ее, настоял, чтобы они чокнулись. Коснувшись на миг ее руки, он испытал чувство удовлетворения. И тут же он почти увидел и услышал, как хор женщин указывает на него пальцами и смеется, резко, грубо, обидно, как умеют смеяться женщины. И он знал, что это не просто фантазия. С того самого мгновения, как он увидел ее лицо, всплывшее из мифологии, нечеловеческая страсть всколыхнула в нем давно забытые глубины, глубины первобытного сомнения и древних предрассудков: он был зачарован и на грани безумия, потому что у стола, с блокнотом в руке, ему явилось воплощение того, что Юнг называл anima, духовным образом.
Наедине с ним она почти все время молчала, но теперь вдруг заговорила:
— Вы в самом деле берете меня завтра с собой? В таком случае мне нужно пойти в парикмахерскую уложить волосы.
— А так разве плохо?
— Да нет, просто их нужно уложить. Только в перерыв мне никак не успеть.
— Завтра вы свободны на все утро.
Это прозвучало как приказ.
— Ах, вы разрешаете? Но что скажет мисс Бэри?
— Я сам поговорю с ней. Скажу, что вы позвонили и сослались на нездоровье. Предоставьте это мне.
— Но ведь она знает, что завтра я еду с вами.
— Разве? В таком случае я скажу ей, что поеду один. Так, право, будет лучше.
— Но тогда в четверг она спросит, что со мной было. Она всюду сует свой нос, эта мисс Бэри.
— Ну, скажете ей что-нибудь — придумайте что хотите. — Он говорил с раздражением, ему не по душе были эти ничтожные ведомственные интриги. — Хотите еще хереса?
— Нет, нет, большое спасибо.
Беря у нее стаканчик, он накрыл ладонью ее руку. Это прикосновение, каким мимолетным оно ни было, раздуло тлевшие в нем чувства. Он стоял над ней неподвижно, хотя весь пылал. Как ни плотен ее кокон старомодной благопристойности, она женщина и должна понимать, что он чувствует. Он ничего не сказал и стоял затаив дыхание, чтобы не спугнуть то, что должно было свершиться.
Она подняла голову и взглянула на него. Этот взгляд пришел из глубины тысячелетий.
— Ну хорошо. Но только раз. Смотрите же — только один.
— Что один? — Это до такой степени противоречило его жизненному опыту, что он действительно не понял, о чем она говорит.
— Вы ведь хотите меня поцеловать? — Она отнеслась к этому сугубо по-деловому. — Ну, хорошо, только не больше одного раза. И пожалуйста, без глупостей, по-хорошему.
Сердце у него бешено колотилось, и он, чувствуя себя от этого глупо, поцеловал ее прямо в губы, но как мог деликатнее. Потом огромным усилием воли заставил себя отойти от нее. Он допил виски и только тогда решился снова на нее посмотреть. Вполне можно было ожидать, при гаком деловом подходе, что теперь она листает блокнот или пудрит нос, но, к его удивлению, она сидела в той самой позе, в какой он ее оставил, и смотрела на него — глаза ее были широко раскрыты и блестели, а губы как будто слегка дрожали. Как же теперь быть? Он действительно не знал, что делать. Как будто много лет и близко не подходил к женщине.