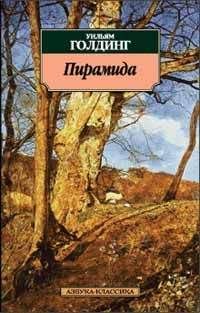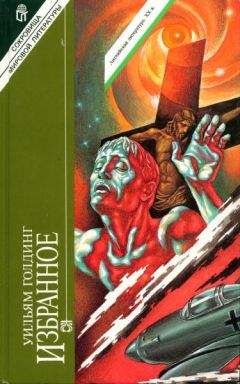Уильям Голдинг - Зримая тьма
Он встал, подошел к окну и, сложив руки за спиной, обвел взглядом улицу.
— Ураган не обрушится на правительство, поверьте мне, и бомба тоже на него не упадет.
Мэтти по-прежнему молчал.
— Вы из какой части Англии? Наверняка с юга. Из Лондона? По-моему, вам лучше вернуться на родину. Насколько могу судить, вы никогда не перестанете… Люди, подобные вам, всегда стоят на своем. Да, вам лучше плыть домой. В конце концов, — он внезапно повернулся, — там ваш язык нужнее, чем здесь.
— Я хочу обратно.
Секретарь с облегчением опустился в кресло.
— Превосходно! Вы даже не представляете себе, как я рад… Понимаете, нам казалось, что после этого пренеприятнейшего случая с туземцем, с аборигеном — знаете, они настаивают, чтобы их называли «аборигенными», будто они прилагательное, — нам казалось, мы должны что-то для вас сделать…
Он подался вперед, оперевшись о стол сомкнутыми ладонями.
— …И прежде чем мы расстанемся, скажите мне… Вы обладаете каким-то… каким-то особым восприятием, экстрасенсорным восприятием, ясновидением? Одним словом, вы видите?
Мэтти смотрел на него, сомкнув губы, как железные створки. Секретарь прищурился.
— Я имею в виду, мой дорогой друг, ту информацию, которую вы призваны вдолбить в уши нашему невнемлющему миру…
Мгновение-другое Мэтти ничего не говорил. Затем, поначалу медленно, а под конец рывком, поднялся, встал напротив секретаря, но смотрел не на него, а поверх его головы в окно. Лицо Мэтти исказилось, но он не издал ни звука. Он прижал стиснутые кулаки к груди, и из его искривленного рта вырвались два слова, два мяча для гольфа:
— Я чувствую!
Повернулся, вышел, минуя один кабинет за другим, в мраморный вестибюль, и вниз по ступенькам, прочь. Сделав несколько покупок, среди которых только одна — карта — не казалась странной, Мэтти сложил их в свою старенькую машину, и город больше его никогда не видел. Собственно, вся Австралия навсегда рассталась с его чудачествами. Все оставшееся время в этой стране он не выделялся ничем, кроме черной одежды и отталкивающего лица. Но если людям Австралии было до него мало дела, то находились другие, неравнодушные к нему существа. Мэтти проехал много миль со своими странными покупками, — казалось, он ищет нечто — скорее большое, чем малое. Похоже, он хотел спуститься вниз; найти водоем и опуститься в него, отыскать жаркое, зловонное место и стать таким же, как оно. Сочетание того и другого иногда встречается в природе; но, как правило, в такие места очень трудно проехать на автомобиле. Поэтому Мэтти пришлось долго петлять по незнакомым местам и частенько ночевать в машине. Он натыкался на деревушки из трех полуразвалившихся лачуг с крышами из гофрированного железа, скрежетавшего и лязгавшего под горячим ветром, а на мили вокруг — ни одного дерева. Он проезжал мимо зданий в палладианском[7] стиле, построенных среди гигантских деревьев, на которых орали красные какаду, а ухоженные пруды заросли лилиями. Он обгонял людей, едущих в двуколках, запряженных лошадьми, ступающими изящно, высоко поднимая ноги. Наконец он нашел нечто, не нужное никому другому, осмотрел в ярком солнечном свете — хотя даже в полдень лишь немногие лучи пробивались к воде — и стал следить, пожалуй, даже с трепетом, который никогда не отражался на его лице, за бревноподобными существами, ускользавшими одно за другим из поля зрения. И он отправился искать сухое место, чтобы там подождать. Он читал свою Библию в деревянном переплете, и до самых сумерек его не отпускала легкая дрожь. Он заново приглядывался к знакомым предметам, как будто в них могло найтись нечто, дающее успокоение. Но чаще всего, конечно, разглядывал Библию, словно никогда не видел ее раньше. Для него стало важным, что ее переплет сделан из самшита, и он задумался, почему; мелькнула мимолетная мысль — для надежности, но это было странно, ведь Слово не нуждается в защите. Так он просидел много часов, пока солнце прошло весь свой привычный путь по небу, нырнуло за горизонт и появились звезды.
Место, которое он нашел, во тьме выглядело еще более причудливо. Тьма была плотной, словно под бархатным покрывалом, какое набрасывали себе на голову старинные фотографы. Но всем другим органам восприятия вполне хватало бы ощущений. Ноги чувствовали бы мягкую и липкую субстанцию — полуводу, полугрязь без единой щепки или камня, которая быстро бы поднялась выше лодыжек, сдавливая их со всех сторон. Нос улавливал бы несомненные свидетельства разложения растительной и животной материи, а рот и кожа — в этих обстоятельствах казалось, что кожа способна чувствовать вкус, — пробовали бы воздух, настолько теплый и тяжелый от влаги, что возникало сомнение, стоит ли тело, плывет ли или погружено в воду. Уши наполнились бы лягушачьими раскатами и воплями ночных птиц; и еще слух воспринимал бы шорох крыльев, усиков, конечностей, вой и жужжание живности, кишевшей в воздухе.
Затем, долгим ожиданием заставив себя привыкнуть к темноте, для чего следовало отрешиться от жизни и плоти, отказавшись от всех иных чувств ради зрения, можно было бы обнаружить, что и глазам есть что видеть: слабое фосфоресцирование грибов или поваленных стволов, не столько гнивших, сколько испарявшихся, или более яркую голубизну огоньков болотного газа, которые блуждали среди тростников и дрейфующих островков растительности, питающейся насекомыми и водяным бульоном. Временами вспыхивали, как от поворота выключателя, завораживающие точки — быстрый полет искр между деревьями, танцующих, превращающихся в огненное облако; оно завивалось спиралью, разбивалось, уносилось прочь длинной лентой, которая вдруг непонятно отчего угасала, оставляя после себя еще более глубокую, чем прежде, тьму. Затем со вздохом, с каким спящий ворочается с боку на бок, что-то большое плюхалось в невидимую воду и затихало чуть поодаль. К этому времени неподвижные ноги глубоко увязли бы в шевелящейся теплой грязи, и там, внизу, где темнее, чем во мраке, тайней тайного, с бессознательной искусностью, не позволяя ощутить свое присутствие, присосались бы пиявки и начали бы кормиться сквозь уязвимую кожу.
Но ни одного человека здесь не было; и тому, кто рассматривал это место издалека, при дневном свете, казалось невозможным, чтобы тут с начала рода человеческого побывал хоть один человек. Летучие живые искры вернулись, как будто за ними кто-то гнался. Они летели долгой чередой.
Причина этого полета выяснилась чуть позже. По лесу равномерно двигались огни, сперва один, затем два. Они ненадолго выхватывали из темноты силуэты стволов, обвисших листьев, лишайников, сломанных ветвей, и те временами казались углями или головешками, тлеющими в костре, — сперва черные, потом раскаленные — они исчезали по мере того как двойные огни уходили сквозь лес дальше к болоту; каждому из огней предшествовало пляшущее облачко бесцветных и хрупких летучих существ. Старая машина — сейчас ее мотор распугал все, кроме летучей живности, и даже лягушки, умолкнув, нырнули в воду — остановилась в двух деревьях от таинственного мрака воды. Мотор замолк, фары чуть-чуть потускнели, но их света хватало, чтобы освещать крылатых насекомых и пару ярдов грязи по эту сторону колеи, если ее можно было так назвать.
Водитель некоторое время сидел неподвижно; и только когда совсем заглох мотор и машина простояла неподвижно достаточно долго, чтобы возобновились все прежние шумы, распахнул правую дверцу и выбрался наружу. Он подошел к багажнику, открыл его и с лязгом достал оттуда несколько предметов. Не закрывая багажника, вернулся к водительскому месту и, остановившись, некоторое время глядел в сторону невидимой воды. Проделав все это, он вдруг засуетился, неведомо зачем. Он стащил с себя одежду, и в рассеянном свете фар предстало тощее бледное тело, ставшее объектом внимания хрупких летучих созданий и тех, что жужжали или стонали. Из багажника он достал непонятный предмет и, опустившись на колени в грязь, видимо, начал его разбирать. Звякнуло стекло. Вспыхнула спичка, ярче фар, и стало ясно, что он делает, — правда, наблюдать за ним было некому. Перед ним на земле стояла лампа, давно устаревшая; он снял с нее шаровидное стекло и трубу и зажег фитиль, а хрупкие создания кружились, плясали, вспыхивали и если не сгорали, то уползали полуобгоревшие. Человек прикрутил фитиль и поставил на место длинную трубу со стеклянным шаром. Убедившись, что лампа стоит прямо и не свалится в грязь, он занялся первым набором предметов. Они лязгали, и его замысел был совершенно непонятен, оставаясь скрытым в голове. Он встал, уже не совсем голый. Тело было опоясано цепью, на которой висели тяжелые стальные круги; самый тяжелый лежал на его чреслах, и вид у человека был нелепый, но вполне пристойный, пусть даже никто не видел его, кроме равнодушных к приличиям диких существ. Он снова нагнулся, но вынужден был схватиться за дверцу машины, чтобы удержать равновесие, поскольку тяжелые диски мешали опуститься на колени. Наконец он выпрямился, коленопреклоненный, и медленно подкрутил фитиль. Белое свечение лампы затмило свет фар, ярче обозначились стволы и испод листьев. Плесень, лишайники и грязь приобрели прочность предметов, которые днем останутся неизменными; белые хрупкие мотыльки, обезумев, носились вокруг светящегося шара, а над плоской, застывшей поверхностью блестящей воды двумя алмазами глаз уставилась на лампу лягушка. Лицо человека приблизилось вплотную к белому стеклу — но вовсе не свет искажал левую сторону его лица с полузакрытым глазом и искривленным уголком рта.