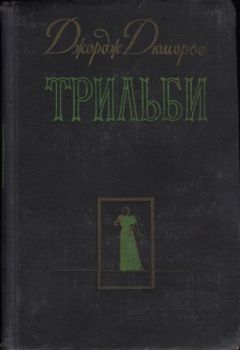Джордж Дюморье - Трильби
В тот день она предстала перед ними в новом воплощении «как молодая девица из общества», в черном капоре и сером жакете, которые смастерила своими собственными руками.
Ее можно было принять за дочь какого-нибудь английского священнослужителя, — вид этот нарушали только просторные, тупоносые ботинки на шнурках без каблуков, — пока она не начала учить Лэрда излюбленным па канкана. Должен признаться, что когда Лэрд танцевал, он был совершенно не похож на сына почтенного, богобоязненного шотландского стряпчего.
Танцы начались после обеда, в саду, перед домом лесника; Таффи, Жанно и Билли играли соответствующую музыку на своих дудках; вскоре затанцевали все присутствующие. И было кому посмотреть на это: у лесника по воскресным дням обедало летом много посетителей.
Можно без преувеличения сказать, что Трильби, несомненно, была королевой этого бала и что в самом высшем обществе балы бывали похуже, а женщины — менее красивы!
Трильби, легко и воздушно танцующая канкан (ведь его можно танцевать по-разному), выглядела необычайно обаятельно и мило — et vera incessu patuit dea![12] — и опять-таки была презабавной, не будучи вульгарной. По грациозности (даже в канкане!) она могла бы считаться предшественницей Кэйт Воган, а по неподдельному комизму — предвестницей Нелли Фаррен.
Лэрд, старательно выделывавший па «кон-кона» (как он его называл), выглядел неописуемо смешно, и если огромнейший успех является пробным камнем для комического актера, то ни один более талантливый комик, чем он, не танцевал на сцене соло.
Вот что способны были выделывать англичане во франции в пятидесятых годах нашего века, ухитряясь яри этом не терять чувства собственного достоинства и самоуважения, а также уважения их уважаемых друзей французов!
— Вот я каков! — приговаривал Лэрд, каждый раз как он кланялся в ответ на взрывы аплодисментов, прерывавших его выступление с разными сольными па его собственного изобретения в стиле, шотландских народных плясок, чрезвычайно увлекательных.
Однажды Лэрд заболел (очевидно, в наказание за свои прегрешения). Послали за доктором, и тот велел, чтобы подле него дежурила сиделка. Но Трильби и слышать не хотела ни о какой сиделке. Она стала сама ухаживать за больным и не смыкала глаз в течение трех суток.
На четвертый день Лэрд был уже вне опасности и перестал бредить. Доктор застал бедную Трильби спящую глубоким сном у изголовья кровати своего пациента.
Мадам Винар на пороге спальной приложила палец к губам и шепнула: «Какое счастье! Он спасен, месье доктор, прислушайтесь — он молится по-английски, этот славный юноша!»
Добрый старый доктор, не понимавший по-английски ни слова, услышал, как Лэрд слабым, приглушенным, но ясным голосом торжественно и с воодушевлением декламировал:
В таверне Трэна — буйабесс
Не суп, а чудо из чудес!
В нем снедь морская, зелень, травы,
Коренья, пряности, приправы.
— Ах, как это мило с его стороны, — воскликнул доктор, — Достойнейший молодой человек! Он благодарит небо за свое спасенье! Прекрасно! Прекрасно!
Несмотря на то, что сам он был скептиком, вольтерианцем и враждовал с церковью, добряк доктор растрогался до глубины души, ибо был стар, а потому отличался терпимостью и снисходительностью.
И после он наговорил столько приятного Трильби и по поводу этого, и по поводу ее замечательного ухода за своим пациентом, что она даже всплакнула от радости — как та темнокудрая Алиса, которую любил Бен Болт.
Хоть это и звучит весьма сентиментально, однако все это на самом деле было так, как здесь описано.
Легко понять, следовательно, почему трое англичан с течением времени стали питать к Трильби совершенно особое чувство. Им было грустив думать, что настанет день, когда этому необычному и прелестному дружескому квартету наступит конец и каждый из них расправит крылья и улетит своей дорогой, а бедная Трильби останется одна. Они дажё строили планы, как ей лучше устроить свою жизнь, чтобы избежать коварных сетей и ловушек, которые, безусловно, усеют ее одинокую стезю в Латинском квартале, когда их не будет подле нее.
Трильби никогда не думала о подобных вещах, она жила сегодняшним днем, не заботясь о будущем.
На ее безоблачном небе была, однако, тень, некая зловещая фигура, постоянно встречавшаяся на ее пути, заслонявшая от нее сиянье солнца, — это был Свенгали.
Он тоже был частым гостем в мастерской на площади св. Анатоля, где ему прощали многое за его игру на рояле, особенно когда он приходил вместе с Джеко и они музицировали вдвоем. Но в скором времени выяснилось, что оба они приходят вовсе не для того, чтобы услаждать своей игрой трех англичан, а чтобы видеть Трильби, в которую им обоим вздумалось влюбиться — каждому на свой лад.
Джеко любил ее со смиренным, преданным собачьим обожаньем, с безмолвным, трогательным благоговением, и во взоре его сквозила немая мольба простить его недостойную особу, как если б единственным вознаграждением, о котором он смел мечтать, было просто вежливое слово, беглый приветливый взгляд — всего только кость, брошенная собаке.
Свенгали был более дерзким поклонником. В его раболепии таилась насмешка, его подобострастие было полно саркастических угроз, в его игривости было нечто зловещее: игра кошки с беззащитной мышкой, — отвратительной грязной кошки; назойливой, надоедливой большой кошки-паука, если такой зверь существует не только в кошмарах.
Для него было большим огорчением, что головная боль не мучает ее больше. С ней это случалось по-прежнему, но она предпочитала терпеть, лишь бы не искать облегчения у Свенгали. Поэтому он иногда игриво пытался гипнотизировать ее, стараясь подойти поближе к ней, делая руками пассы и контрпассы и сверля ее своим упорным, повелительным взглядом, пока она не начинала дрожать от страха, чувствуя, как безотчетно, словно в ночном бреду, поддается его влиянию. Громадным усилием воли она заставляла себя очнуться и убегала.
Если это происходило при Таффи, он вмешивался, дружелюбно восклицая: «Полно, старина! будет вам!» — и так шлепал Свенгали по спине, что тот кашлял целый час, и гипнотическая его власть оставалась на неделю парализованной.
Свенгали неожиданно повезло. Он дал три больших концерта вместе с Джеко и имел заслуженный успех. Затем он выступил с сольным концертом, произвел фурор и стал появляться в красивых дорогих костюмах, таких оригинальных по цвету и покрою, что на улицах все обращали на него внимание и глазели ему вслед, — Свенгали страшно это нравилось. Он почувствовал, что будущее его обеспечено, и начал делать заказы в кредит у портных, шляпных фабрикантов, сапожников, ювелиров, не возвращая прежних долгов ни одному из своих, приятелей. Карманы его были набиты битком газетными вырезками — отзывами о его концертах, — он читал эти выдержки вслух всем знакомым и особенно Трильби, когда она, бывало, сидела на помосте, штопая носки, а фехтование и бокс были в разгаре. Он готов был бросить свою славу и состояние к ее ногам, с условием что она согласится разделить с ним жизнь.
— О господи, Трильби, разве вы не понимаете, что значит быть таким великим пианистом, как я, а? — говорил он подчас. — Ну, что представляет из себя ваш Билли, когда безмолвно сидит в углу за своим промасленным мольбертом, с жалкой палитрой в одной руке и убогой кистью из свиной щетины в другой! Разве он может произвести фурор, иметь успех? Закончив свою дурацкую картину, он повезет ее в Лондон, и ее повесят на стенку в один ряд с другими картинами — как новобранцев, выстроенных для осмотра, а зевающая публика будет проходить мимо и восклицать: «Ну и ну!» Погодите, Свенгали сам отправится в Лондон. Один на сцене, он заиграет так, как не может играть никто другой, и сотни красавиц англичанок сойдут с ума от любви к нему — разные принцессы, баронессы, знатнейшие герцогини! Они отрекутся от своих титулов и знатности, когда услышат Свенгали! Они наперебой станут приглашать его в свои дворцы и платить ему тысячи франков, только бы он играл для них, а Свенгали развалится в самом лучшем кресле, а они усядутся на скамеечках у его ног и станут угощать его чаем, джиной, пирожными, каштанами в сахаре, суетиться вокруг него, обмахивать его веером — ибо он утомится, играя им Шопена за тысячу франков в вечер! Ха-ха! Я. все знаю наперед, а?
А он даже и не взглянёт на них! Он будет созерцать про себя свою мечту — мечтать о Трильби, о том, как он положит свой талант, свою славу и богатство к ее прекрасным белоснежным ногам!
Их толстые, безмозглые, тупоносые дураки-мужья, безумствуя от ревности, будут жаждать избить его, но не посмеют! Ах, прекрасные англичанки! Они будут считать за честь чинить ему рубашки, пришивать пуговицы к его брюкам, штопать ему носки, как вы это сейчас делаете для этого проклятого глупца шотландца, который вечно пытается изобразить на полотне тореадоров! Или для тупоголового быка англичанина, который вечно старается выпачкаться, чтобы затем отмыться… И так без конца! Праведное небо! Ну что за олухи!