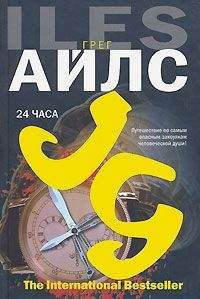Борис Васильев - Жила-была Клавочка
— Все теперь генами объясняют, — сказал милиционер. — Мода такая.
— Не скажите, — вежливо не согласился старичок. — Ученые говорят о генетической усталости нации. Да это и понятно, коли вспомним, что на долю одного-двух поколений досталось. Тут и первая мировая, и гражданская, и голод с разрухой, и коллективизация с индустриализацией, и культ личности, и Великая Отечественная. И всё ведь — мы, этими вот руками, этой вот спиной, этим вот сердцем.
В проходе появился длинный худой старик с угрюмым лицом. Перед собою он нес большой чемодан.
— Здесь, что ли, тридцать седьмое место?
— Боковое, — сказал милиционер, посмотрев.
— Вагон в кассе спутали, — сердито сказал старик. — Работают спустя рукава, а ты тащись через весь состав.
Ворчанье его никто не поддержал, а измученная женщина вздохнула горестно:
— Какие там гены, какие, когда пил он, проклятый, как верблюд, пока не помер. И меня пить заставлял. Вот когда напьется, тогда и вспоминает, что я ему законная жена. Что же ты, говорю, ирод, меня только пьяным и замечаешь, будто случайная я тебе женщина, говорю я ему. А он — пустой, говорит, я внутри, а выпью, так вроде интерес появляется.
— Врут они все, мужики то есть, — скрипуче ворвалась рыхлая баба. — Все, как есть, пьяницы, а брешут неизвестно чего, лишь бы им выпить поднесли.
— Да, с пьянством вопрос серьезный, — солидно сказал милиционер. — Так получается, что до восьмидесяти процентов преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения. Особенно на сексуальной почве. — Тут он покосился на Клаву, сказал «Гм!» и застенчиво примолк.
— Ну и что? — сердито спросил угрюмый старик.
— Как что? — растерялся милиционер. — Проблема.
— Проблемы надо решать. А чтобы решать, надо знать причины. И каковы же, по-вашему, эти причины?
— Причины? — Сергей помялся, опять искоса глянул на Клаву. — Разные причины.
— Богатые все стали! — опять с криком ворвалась Полина Григорьевна. — У всех денег — куры не клюют, потому-то водку и хлещут.
— Странная метаморфоза в нашем сознании, — желчно усмехнулся старик. — В учебниках политграмоты, помнится, утверждалось, что в России пили от нищеты, а теперь одна из самых ходовых причин — хорошо стали жить. Ну да ладно, все же точка зрения. А вы что скажете?
Он спросил старичка в очках, того, что сидел напротив Клавы. Вопрос прозвучал резко, старичок вздрогнул, снял очки, долго протирал их, надел и только тогда ответил:
— Видимо, общее падение нравственности.
— Расплывчато. А падение чем объяснить? Вы кто по профессии?
— По профессии я пенсионер, — улыбнулся старичок. — А прежде был сельским учителем. Сорок три года безвылазно в одном селе.
— Коллеги, значит.
— Вы тоже учитель? — обрадовался Яков Матвеевич.
— Нет, тоже пенсионер, — усмехнулся желчный. — Продолжим игру во мнения? Вы какую причину пьянства усматриваете?
— Я? — Лидия Петровна обняла несчастного ребенка. — Вот мое мнение. Собрать бы всю водку да сдать на электростанцию — это ж сколько бы света она принесла!
— Прекрасно ответили, — помолчав, тихо сказал угрюмый старик. — Вот, коллега, что значит крик души.Да. А вы что добавите?
Он обращался к Клаве, но Клава как раз в этот момент мыслями была далека. Так случалось с нею, когда разговор становился не очень понятным или малоинтересным. Она не расслышала, что к ней обращаются, и милиционер с готовностью подхватил:
— Ада, товарищ у вас спрашивает. Вы слышите, Ада?
— Что? Ах, у меня…— Клава пожалела, что сгоряча назвалась Адой, но отступать было некуда. — А вот моя подруга так считает, что мы, женщины то есть, самый последний шанс. Что на нас все сейчас только и держится, и что если мы будем дружными и захотим, то мужчины тоже исправятся.
Довесок к словам пьяной Томки она досочинила тут же, потому что ей очень понравился молодой милиционер. И все засмеялись, но радостно, а потому и не обидно, и Клава засмеялась тоже впервые с того страшного вечера.
— Вот где истоки современной Лисистраты, — сказал угрюмый, переставший вдруг быть угрюмым. — Но мысль есть. Действительно, женщина — главное страдающее, а потому и главное действующее лицо.
Подошла проводница, спросила, будут ли пить чай. Все как-то примолкли, а милиционер Сергей вдруг вскочил и сказал, чтоб чай подавали всем и по два стакана. И добавил:
— Мы вам поможем. Правда, Ада?
И опять Клава завязла, не сразу сообразив, но, по счастью скоро очухалась. Милиционеру выдали поднос, кипяток тек маленькой струйкой, проводницу все время отвлекали, и они долго стояли перед титаном. Сергей рассказывал, что был в Москве награжден грамотой, а Клава ничего не рассказывала, но очень хорошо слушала, и тот раскаленный уголек, что жег ее сердце, постепенно подергивался пеплом.
— А вы зачем в Пронск? — вдруг спросил он и смутился. — Я потому спрашиваю, что на кого-то вы похожи.
— А я из кино, — почему-то сказала Клава, а про себя подумала: «Ох, зачем же врешь-то, вредина такая?..» — Мы там кинофильм будем снимать на улице Кирова.
На улице Кирова жила бабка Марковна, а других улиц Клава не знала.
— Артистка, значит? — радостно заулыбался он. — Ну я же сразу сказал, что лицо знакомое!
Лицо у Клавы было как у всех. И курточка — как у всех. И если модным считался красный цвет, то Клава металась в поисках красного, а если зеленый, то зеленого.
— Нет, что вы, я не артистка, — сказала она, покраснев и тут же почему-то вспомнив Липатию Аркадьевну. — Я ими заведую. Вот. Но, правда, иногда, знаете… Приходится подменять.
— Вот я и говорю! — обрадованно воскликнул он. — Конечно же я вас в кино видел!
Тут пришла проводница и стала разливать чай. Потом Сергей понес нагруженный поднос, а Клава раздала стаканы и сахар. К этому времени общий разговор превратился в спор двух стариков, а остальные слушали, и народу в купе прибавилось. Какие-то две девицы пристроились на краешке полки, демобилизованный в мундире со значками стоял в проходе, остроносая старуха оказалась подле желчного старика, солидный гражданин отставного вида примостился на Клавину полку, да так, что Клава едва втиснулась за свое законное место. А потом подошли еще какие-то любознательные, и даже проводница, разнеся чай по вагону, надолго застряла в их компании.
— Скверно учим, из рук вон скверно, а точнее, так и вовсе не учим, — говорил старичок в очках, все более горячась и все более теряя благодушие. — Учитель стал непристижной профессией, и где — на Руси! В народе, издревле жадно ищущем свет истины в темном царстве истории. А ныне приезжаю в Москву — дочь у меня преподаватель, правда, не в селе, как отец с матерью, но все же. И что узнаю? Муж ее, тоже педагог, бросил школу, ушел в комбинат бытового обслуживания и берет подряды на ремонт квартир и циклевку паркетов!
— Мало платят, потому и бегут, — сказал отставник. — Платите больше, и будет вам престиж.
— А за что платить-то, за что? — взвилась неизвестно чем обиженная Полина Григорьевна. — Языком — ля-ля! ля-ля! А мальчишки все хулиганы. Тут штраф брать надо, а не платить.
— Вот считать мы учим, — подхватил старичок Яков Матвеевич. — И все больше, так сказать, вычитанию: того мало, этого мало, того нет, этого нет — только и слышишь. Вещи нас душат, вещный мир обернулся свинячьей харей и смеется над нами, как у Гоголя. И средства массовой информации вносят свою лепту: вспомните, с каким удовольствием вещают нам, сколько мотоциклов и телевизоров в современной деревне, будто телевизорами и транзисторами можно заменить жажду знаний, потребность делать добро, трудолюбие, совесть, наконец.
— О совести — это вы вовремя, — усмехнулся желчный старик.
— Да. — Старичок опять снял очки и очень старательно протирал их. — Вспоминал, говорим ли мы о совести, и не вспомнил. По-моему, совершенно не говорим. Стесняемся или разучились, отвыкли и уж не ведаем, как к этому чувству подойти.
— На танцплощадку так лучше и не ходи, — вдруг очень быстро сказала одна из девушек. — Такое безобразие творится, такое безобразие. И куда милиция смотрит?
— Так нельзя же к каждой девушке по милиционеру прикрепить. — Сергей улыбнулся, заглянув Клаве в глаза.
— А совести и не нужна никакая внешняя сила, потому что совесть — это и есть сила. Духовная сила человека, основанная на глубочайшей убежденности. — Желчный старик говорил непривычно медленно, неторопливо подбирая слова, но все молчали, слушая. — Вопрос о пределах совести, о борьбе ее с волеизъявлением личности очень занимал наших предков. Тут вам и Родион Романович с топором, и князь Нехлюдов с метаниями, и Пьер и так далее и так далее. И здесь важно, что совесть — это ваша, личная сила, она не принадлежит ни государству, ни обществу, ни семье — только вам. Не по этой ли причине борения личной совести исчезли из нашего сегодняшнего искусства? Мы толкуем о выполнениях и перевыполнениях, о трудах и сомнениях руководителей всех степеней, но совесть-то у них, как правило, помалкивает. Главное — вовремя выполнить приказание: ведь план — это тоже приказание. И его выполняют во что бы то ни стало, ибо за выполнение дают премии и прочие реальные блага. Ну, а там, где господствует «во что бы то ни стало», там уже не до совести. Там она из госпожи человеческой превратилась в служанку, в «чего изволите» превратилась. И незаметно, тихо, без терзаний Достоевского и размышлений Толстого понятие совести заместилось понятием «цель оправдывает средства». А закон достижения цели во что бы то ни стало — очень страшный закон. Страшный своей торжествующей и окончательной безнравственностью: высокой целью и любые жертвы оправдаю — от десятков миллионов загубленных жизней до детской слезы. И спать буду спокойно, ибо совесть направлена ныне вовне человека, на общество в целом, а не на спасение одной-единственной души, что уже тысячелетия является альфой и омегой общечеловеческой культуры.