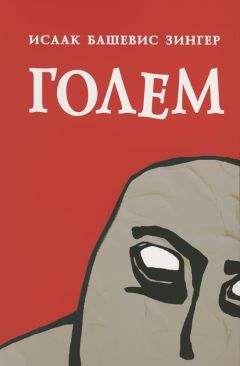Исаак Башевис-Зингер - Семья Мускат
Аса-Гешл вышел на улицу. Опять пошел снег, теперь он шел медленно, частыми, крупными хлопьями. Юноша поднял воротник. Этот день длился целую вечность. В ушах у него вновь и вновь звучали слова и фразы, которые он услышал за сегодняшний день. Он быстро зашагал по улице и вскоре перешел на бег. От неба, по-прежнему словно бы охваченного алым заревом, от покрытых снегом крыш, балконов и порогов веяло чем-то странным, таинственным, кабалистическим. Пламя в газовых фонарях металось, отбрасывало мерцающий свет. По снегу врассыпную бежали тени. Время от времени тишина нарушалась криком или грохотом, как будто кто-то в темноте выпалил из ружья. Аса-Гешл вдруг вспомнил, что еще сегодня утром он не знал в Варшаве ни единой души; теперь же, спустя всего двенадцать часов, он обзавелся жильем, учительницей, заработком — предложением переписать набело рукопись, а также приглашением посетить дом Абрама. В темноте ему мерещилось лицо Адасы, живое и светящееся — как во сне.
Когда Гина открыла ему дверь и увидела у него в руках кособокую корзину — весь его скарб, ей стало не по себе. Точно так же много лет назад, уезжая из Варшавы учиться, выглядел и Герц Яновер. «И этот парень тоже принесет кому-то несчастье, — подумалось ей. — Жертва уже есть и готовится к закланию».
Глава четвертая
Мешулам Мускат уже давно взял за правило раздавать подарки членам своей семьи сразу после ритуала благословения первой ханукальной свечи. В этом году, как и в прошлые годы, его сыновья и дочери, их жены, мужья и дети съехались на праздник в дом старика. Наоми и Маня готовились к этому событию заблаговременно.
Мешулам, вместе со всеми остальными мужчинами, вернулся домой после вечерней службы в Бялодревнском молельном доме. Женщины, внуки и внучки ждали их дома.
В гостиной находилась огромная ханукия с выгравированным на ней причудливым узором. Собственной рукой хозяин дома залил в нее оливковое масло, специально для этой цели привезенное со Святой земли, прочел положенную молитву и поднес огонь к фитилю. Пламя вспыхнуло и задымило; центральная, девятая, свеча, шамаш, отбрасывала мерцающий свет на червленое серебро. В честь праздника Мешулам облачился в халат в цветах и в пеструю кипу. Сыновьям он раздал конверты с деньгами; женщины получили в подарок коралловые ожерелья и браслеты — каждая в соответствии со своим возрастом и положением. Внукам достались волчки и мелкие монетки. Никто не был забыт, подарки получили обе служанки и кучер Лейбл.
После раздачи подарков Наоми и Маня внесли огромные подносы с латкес, блинами из натертой на терке картошки, жаренными на подсолнечном масле и посыпанными сахаром и корицей. После чая с вареньем вся семья, по ханукальной традиции, разделилась на группы для игр. Мешулам предпочитал играть с детьми и обязательно проигрывал им несколько медяков. Из трех зятьев в этот раз присутствовал только один, Мойше-Габриэл. Муж Перл умер в прошлом году; что же до Абрама Шапиро, то Мешулам не был до него большим охотником. Мойше-Габриэл был книжником, сыном раввина, одним из тех немногих, кто удостаивался чести сидеть за столом у бялодревнского ребе во время трапезы хасидов. Как только ханукия была зажжена, он вернулся в молельный дом; посещение мирского дома своего тестя являлось для него предметом страданий и тяжких испытаний.
В гостиной поднялся шум. Йоэл, старший сын Мешулама, необычайно высокий шестидесятилетний мужчина с большим животом и красной, прыщавой шеей, слыл игроком азартным. В Йоэле все было исполинских размеров: и голубые, навыкате глаза, и мясистый, в оспинах нос, и развесистые уши с толстыми мочками. Он тщательно, размашистыми движениями тасовал карты, внимательно следя за тем, чтобы все шло по правилам. Какие бы карты ему ни приходили, хорошие или плохие, он то и дело бросал монеты в тарелку, стоящую посреди стола.
— Гульден! — говорил он своим густым голосом.
— Будет тебе, Йоэл! Кого ты пытаешься напугать? Может, у тебя ничего и нет, — замечал его брат Натан.
— Тогда клади деньги, — говорил Йоэл. — Посмотрим, какой ты умный.
Натан был ниже ростом, чем Йоэл, зато полнее, с высоким круглым животом беременной женщины, короткой, мясистой шеей и двойным подбородком. Щеки у него были гладкие, как у младенца; в семье считалось, что ему не хватает мужского начала. Детей у него не было. Он страдал диабетом, и его жена Салтча, маленькая, похожая на бочонок женщина, каждый час напоминала мужу, чтобы тот принял лекарство. Натан посмотрел в карты, потеребил жидкую бороденку, хитро усмехнулся и сказал брату:
— Ты меня своим гульденом не испугаешь. Ставлю один сверху.
Пиня, сын Мешулама от второй жены, был невысок, худ, с увядшим, желтым лицом, обрамленным желто-зеленой бородой. Рядом с массивными Йоэлем и Натаном смотрелся он почти карликом. Пиня имел обыкновение щеголять остроумными замечаниями и мудрыми изречениями из Талмуда, однако никто на его реплики внимания не обращал. В карты он играл хуже некуда, вот почему его жена Хана, ограничивая его в расходах, больше пятидесяти копеек мужу на игру не выдавала.
— Мне конец, — твердил он, в сердцах отбрасывая карты. — С такими картами и разориться недолго.
Нюня, младший из сыновей Мешулама от второй жены, ни секунды не мог усидеть на месте, у него тряслись руки, он потел, краснел — и делал одну ошибку за другой. Перед своими старшими братьями, Йоэлем и Натаном, он трепетал, младшего же, Пиню, наоборот, постоянно подначивал.
За женским столом разговор не замолкал ни на минуту; говорила в основном жена Йоэла Эстер, «Царица Эстер», как ее прозвали в семье, — мужеподобная особа с тройным подбородком и гигантской грудью. Она вытаскивала из полотняного мешочка фишки и выкрикивала помеченные на них числа. Остальные проверяли, не совпадают ли эти числа с номерами на лежавших перед ними на столе картонках. Хотя Эстер только что поглотила огромное количество праздничных блинов, перед ней на столе собралось немало деликатесов: нарезанный на дольки апельсин, пирожные и карамель, халва; все это пожирал, как объясняли ей доктора, заведшийся в ее организме ненасытный ленточный червь. Салтче, жене Натана, по всей видимости, везло. Не успела игра начаться, как она издала победоносный крик и продемонстрировала всем свою таблицу с полностью заполненными рядами цифр. И хотя игра шла мелкая — на гроши, — шум за женским столом стоял невообразимый. Жены и дочери болтали, смеялись и перебивали друг друга, звенели чайными ложечками и стучали чашками о блюдца. Эстер и Салтча, старшие невестки, без умолку сплетничали — прохаживаясь в основном насчет Даши, пришедшей без своей дочери Адасы. Перл, старшая дочь Мешулама, вдова, женщина деловая и сметливая, вся в отца, сидела отдельно со своими дочерьми и невестками. Жили они сами по себе, на севере Варшавы, в той части города, которую принято было называть «выселками». В гостях у Мешулама они бывали не чаще двух раз в году. Хана не столько следила за игрой, сколько за своим мужем Пиней; она боялась, как бы тот не совершил какую-нибудь непростительную оплошность. В конце стола сидела Хама, жена Абрама, маленькая, нездорового и печального вида женщина с красным носом и глазами «на мокром месте». Похожа она была на нищенку, которая каким-то чудом оказалась дочерью богатого человека. Платье на ней было поношенное, да и парик немногим лучше. Хама рассеянно перебирала фишки, которые сжимала в руке, и никак не могла отыскать номера в своей таблице. Она то и дело бросала взгляды на своих дочерей, Беллу и Стефу, и тихонько вздыхала. С нескрываемым презрением провожала она глазами гроши, которые проигрывала вместе с дочерьми своим ненасытным невесткам, Эстер и Салтче.
— Какой номер ты назвала? — спрашивала она. — Семьдесят третий? Девяносто восьмой? Ни слова не слышу.
Лея, младшая дочь Мешулама, жена Мойше-Габриэла, села с девушками. Хотя они и называли ее «тетей», она относила себя к их поколению. Это была крупная женщина с большой грудью, полным лицом, крепкими бедрами, толстыми ногами и проницательными голубыми глазами. В юности ее угораздило влюбиться в Копла. Когда Мешулам об этом узнал, он устроил Коплу большой нагоняй и тут же, чтобы избежать позора, выдал дочь замуж за бездетного вдовца Мойше-Габриэла Марголиса. Муж и жена постоянно препирались и ссорились; разговорам о разводе не было конца. Теперь же Лея что-то нашептывала дочерям своих братьев и сестер, тискала их и щипала. Девушки покатывались со смеху.
— Тетя Лея! Перестаньте, ну, пожалуйста! Ой, умираю! — визжали они. Они хохотали, падали друг дружке на колени и так шумели, что в конце концов Мешулам не выдержал и изо всех сил хватил кулаком по столу; он терпеть не мог, когда женщины визжат и хихикают.
Роза-Фруметл участия в игре не принимала. Она уверяла, что играть не умеет и никогда не научится. Она демонстративно отдавала распоряжения прислуге, разливала чай и разносила анисовые пирожные пожилым гостям, а молодежь угощала леденцами в бумажных пакетиках, изюмом, миндалем, инжиром, финиками, фасолью. Стоило кому-то из детей закашляться, как она тут же проявляла к нему величайшую заботу; ребенку, говорила она, следует дать леденец или взбитые яйца с сахаром. Всякий раз, когда Мешулам ругал кого-то из мальчиков или обзывал их, она немедленно за него вступалась: