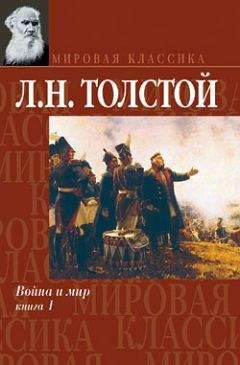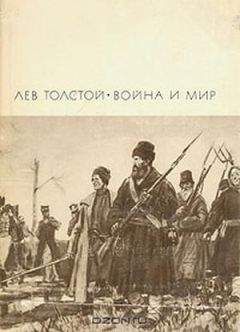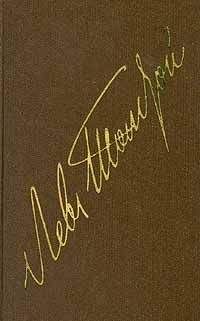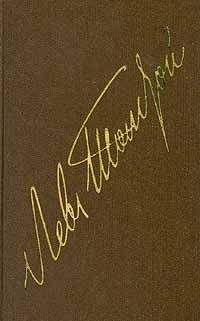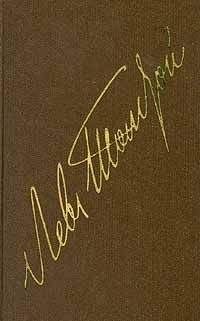Лев Толстой - Война и мир. Книга 2
Когда все поднялись к ужину, Николенька Болконский подошел к Пьеру, бледный, с блестящими, лучистыми глазами.
– Дядя Пьер… вы… нет… Ежели бы папа был жив… он бы согласен был с вами? – спросил он.
Пьер вдруг понял, какая особенная, независимая, сложная и сильная работа чувства и мысли должна была происходить в этом мальчике во время его разговора, и, вспомнив все, что он говорил, ему стало досадно, что мальчик слышал его. Однако надо было ответить ему.
– Я думаю, что да, – сказал он неохотно и вышел из кабинета.
Мальчик нагнул голову и тут в первый раз как будто заметил то, что он наделал на столе. Он вспыхнул и подошел к Николаю.
– Дядя, извини меня, это я сделал нечаянно, – сказал он, показывая на поломанные сургучи и перья.
Николай сердито вздрогнул.
– Хорошо, хорошо, – сказал он, бросая под стол куски сургуча и перья. И, видимо с трудом удерживая поднятый в нем гнев, он отвернулся от него.
– Тебе вовсе тут и быть не следовало, – сказал он.
XV
За ужином разговор не шел более о политике и обществах, а, напротив, затеялся самый приятный для Николая, – о воспоминаниях 12-го года, на который вызвал Денисов и в котором Пьер был особенно мил и забавен. И родные разошлись в самых дружеских отношениях.
Когда после ужина Николай, раздевшись в кабинете и отдав приказания заждавшемуся управляющему, пришел в халате в спальню, он застал жену еще за письменным столом: она что-то писала.
– Что ты пишешь, Мари? – спросил Николай. Графиня Марья покраснела. Она боялась, что то, что она писала, не будет понято и одобрено мужем.
Она бы желала скрыть от него то, что она писала, но вместе с тем и рада была тому, что он застал ее и что надо сказать ему.
– Это дневник, Nicolas, – сказала она, подавая ему синенькую тетрадку, исписанную ее твердым, крупным почерком.
– Дневник?.. – с оттенком насмешливости сказал Николай и взял в руки тетрадку. Было написано по-французски:
«4 декабря. Нынче Андрюша, старший сын, проснувшись, не хотел одеваться, и m-lle Louise прислала за мной. Он был в капризе и упрямстве. Я попробовала угрожать, но он только еще больше рассердился. Тогда я взяла на себя, оставила его и стала с няней поднимать других детей, а ему сказала, что я не люблю его. Он долго молчал, как бы удивившись; потом, в одной рубашонке, выскочил ко мне и разрыдался так, что я долго его не могла успокоить. Видно было, что он мучился больше всего тем, что огорчил меня; потом, когда я вечером дала ему билетец, он опять жалостно расплакался, целуя меня. С ним все можно сделать нежностью».
– Что такое билетец? – спросил Николай.
– Я начала давать старшим по вечерам записочки, как они вели себя.
Николай взглянул в лучистые глаза, смотревшие на него, и продолжал перелистывать и читать. В дневнике записывалось все то из детской жизни, что для матери казалось замечательным, выражая характеры детей или наводя на общие мысли о приемах воспитания. Это были большей частью самые ничтожные мелочи: но они не казались таковыми ни матери, ни отцу, когда он теперь в первый раз читал этот детский дневник.
5-го декабря было записано:
«Митя шалил за столом. Папа не велел давать ему пирожного. Ему не дали; но он так жалостно и жадно смотрел на других, пока они ели! Я думаю, что наказывать, не давая сластей, развивает жадность. Сказать Nicolas».
Николай оставил книжку и посмотрел на жену. Лучистые глаза вопросительно (одобрял или не одобрял он дневник) смотрели на него. Не могло быть сомнения не только в одобрении, но в восхищении Николая перед своей женой.
«Может быть, не нужно было делать это так педантически; может быть, и вовсе не нужно», – думал Николай; но это неустанное, вечное душевное напряжение, имеющее целью только нравственное добро детей, – восхищало его. Ежели бы Николай мог сознавать свое чувство, то он нашел бы, что главное основание его твердой, нежной и гордой любви к жене имело основанием всегда это чувство удивления перед ее душевностью, перед тем, почти недоступным для Николая, возвышенным, нравственным миром, в котором всегда жила его жена.
Он гордился тем, что она так умна и хороша, сознавая свое ничтожество перед нею в мире духовном, и тем более радовался тому, что она с своей душой не только принадлежала ему, но составляла часть его самого.
– Очень и очень одобряю, мой друг, – сказал он с значительным видом. И, помолчав немного, он прибавил: – А я нынче скверно себя вел. Тебя не было в кабинете. Мы заспорили с Пьером, и я погорячился. Да невозможно. Это такой ребенок. Я не знаю, что бы с ним было, ежели бы Наташа не держала его за уздцы. Можешь себе представить, зачем ездил в Петербург… Они там устроили…
– Да, я знаю, – сказала графиня Марья. – Мне Наташа рассказала.
– Ну, так ты знаешь, – горячась при одном воспоминании о споре, продолжал Николай. – Он хочет меня уверить, что обязанность всякого честного человека состоит в том, чтобы идти против правительства, тогда как присяга и долг… Я жалею, что тебя не было. А то на меня все напали, и Денисов, и Наташа… Наташа уморительна. Ведь как она его под башмаком держит, а чуть дело до рассуждений – у ней своих слов нет – она так его словами и говорит, – прибавил Николай, поддаваясь тому непреодолимому стремлению, которое вызывает на суждение о людях самых дорогих и близких. Николай забывал, что слово в слово то же, что он говорил о Наташе, можно было сказать о нем в отношении его жены.
– Да, я это замечала, – сказала графиня Марья.
– Когда я ему сказал, что долг и присяга выше всего, он стал доказывать бог знает что. Жаль, что тебя не было; что бы ты сказала?
– По-моему, ты совершенно прав. Я так и сказала Наташе. Пьер говорит, что все страдают, мучатся, развращаются и что наш долг помочь своим ближним. Разумеется, он прав, – говорила графиня Марья, – но он забывает, что у нас есть другие обязанности ближе, которые сам Бог указал нам, и что мы можем рисковать собой, но не детьми.
– Ну вот, вот, это самое я и говорил ему, – подхватил Николай, которому действительно казалось, что он говорил это самое. – А он свое: что любовь к ближнему и христианство, и все это при Николеньке, который тут забрался в кабинет и переломал все.
– Ах, знаешь ли, Nicolas, Николенька так часто меня мучит, – сказала графиня Марья. – Это такой необыкновенный мальчик. И я боюсь, что я забываю его за своими. У нас у всех дети, у всех родня; а у него никого нет. Он вечно один с своими мыслями.
– Ну уж, кажется, тебе себя упрекать за него нечего. Все, что может сделать самая нежная мать для своего сына, ты делала и делаешь для него. И я, разумеется, рад этому. Он славный, славный мальчик. Нынче он в каком-то беспамятстве слушал Пьера. И можешь себе представить: мы выходим к ужину; я смотрю, он изломал вдребезги у меня все на столе и сейчас же сказал. Я никогда не видал, чтоб он сказал неправду. Славный, славный мальчик! – повторил Николай, которому по душе не нравился Николенька, но которого ему всегда бы хотелось признавать славным.
– Всё не то, что мать, – сказала графиня Марья, – я чувствую, что не то, и меня это мучит. Чудный мальчик; но я ужасно боюсь за него. Ему полезно будет общество.
– Что ж, ненадолго; нынче летом я отвезу его в Петербург, – сказал Николай. – Да, Пьер всегда был и останется мечтателем, – продолжал он, возвращаясь к разговору в кабинете, который, видимо, взволновал его. – Ну какое мне дело до всего этого там – что Аракчеев нехорош и всё, – какое мне до этого дело было, когда я женился и у меня долгов столько, что меня в яму сажают, и мать, которая этого не может видеть и понимать. А потом ты, дети, дела. Разве я для своего удовольствия с утра до вечера и в конторе, и по делам? Нет, я знаю, что я должен работать, чтоб успокоить мать, отплатить тебе и детей не оставить такими нищими, как я был.
Графине Марье хотелось сказать ему, что не о едином хлебе сыт будет человек, что он слишком много приписывает важности этим делам; но она знала, что этого говорить не нужно и бесполезно. Она только взяла его руку и поцеловала. Он принял этот жест жены за одобрение и подтверждение своих мыслей и, подумав несколько времени молча, вслух продолжал свои мысли.
– Ты знаешь, Мари, – сказал он, – нынче приехал Илья Митрофаныч (это был управляющий делами) из тамбовской деревни и рассказывает, что за лес уже дают восемьдесят тысяч. – И Николай с оживленным лицом стал рассказывать о возможности в весьма скором времени выкупить Отрадное. – Еще десять годков жизни, и я оставлю детям десять тысяч в отличном положении.
Графиня Марья слушала мужа и понимала все, что он говорил ей. Она знала, что когда он так думал вслух, он иногда спрашивал ее, что он сказал, и сердился, когда замечал, что она думала о другом. Но она делала для этого большие усилия, потому что ее нисколько не интересовало то, что он говорил. Она смотрела на него и не то что думала о другом, а чувствовала о другом. Она чувствовала покорную, нежную любовь к этому человеку, который никогда не поймет всего того, что она понимает, и как бы от этого она еще сильнее, с оттенком страстной нежности, любила его. Кроме этого чувства, поглощавшего ее всю и мешавшего ей вникать в подробности планов мужа, в голове ее мелькали мысли, не имеющие ничего общего с тем, о чем он говорил. Она думала о племяннике (рассказ мужа о его волнении при разговоре Пьера сильно поразил ее), различные черты его нежного, чувствительного характера представлялись ей; и она, думая о племяннике, думала и о своих детях. Она не сравнивала племянника и своих детей, но она сравнивала свое чувство к ним и с грустью находила, что в чувстве ее к Николеньке чего-то недоставало.