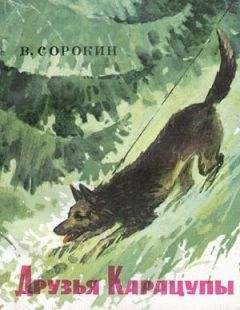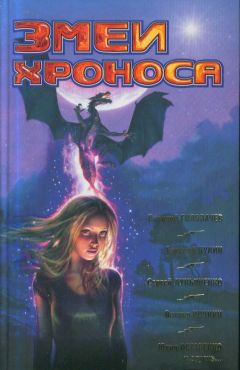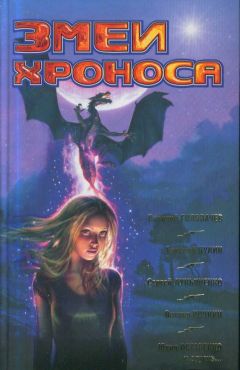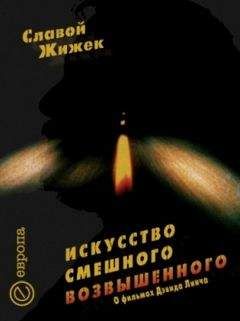Василий Гроссман - Жизнь и судьба
Она успокаивала себя, повторяя: «Он поймет, он обязательно поймет, я иначе не могла поступить».
Она знала, что поступила с Новиковым ужасно: ждал, ждал ее.
Она написала ему безжалостно правдиво обо всем. Отправив письмо, Женя подумала, что письмо прочтет военная цензура. Ведь все это может необычайно навредить Новикову.
«Нет, нет, он поймет», — твердила она.
Но дело и было в том, что Новиков поймет, а поняв, навсегда расстанется с ней.
Любила ли она его, любила ли только его любовь к себе? Чувство страха, тоски, ужаса перед одиночеством охватывало ее, когда она думала о неминуемости окончательного разрыва с ним.
Мысль о том, что она сама, по своей воле погубила свое счастье, казалась ей особо невыносимой.
Но когда она думала, что теперь уж ей ничего не удастся изменить, поправить, что уж не от нее, а от Новикова зависит их полный и окончательный разрыв, то и эта мысль казалась особенно тяжелой.
Когда ей совершенно невыносимо, мучительно становилось думать о Новикове, она начинала представлять себе Николая Григорьевича, — вот ее вызывают на очную ставку… здравствуй, бедный ты мой.
А Новиков большой, широкоплечий, сильный, облеченный могучей властью. Ему не нужна ее поддержка, он справится сам. Она его называла «кирасир». Она уж никогда не забудет его прекрасного, милого лица, всегда будет тосковать о нем, о своем счастье, которое сама загубила. Пусть, пусть, себя она не жалеет. Своих страданий она не боится.
Но она знала, что не так уж силен Новиков. Иногда на лице его появлялось почти беспомощное, робкое выражение…
И не так уж она безжалостна к себе и равнодушна к собственным страданиям.
Людмила, точно участвуя в мыслях сестры, спросила:
— Что ж у тебя с твоим генералом будет?
— Я боюсь об этом думать.
— Ох, сечь тебя некому.
— Я не могла иначе поступить! — сказала Евгения Николаевна.
— Мне твои метания не нравятся. Ушла так ушла. Пришла так пришла. Нечего двойственность разводить и растекаться киселем.
— Так-так, — отойди от зла и сотворишь благо? Я по этому правилу жить не умею.
— Я говорю о другом. Я Крымова уважаю, хотя он мне и не нравится, а твоего генерала я ни разу не видала. Раз ты решилась стать его женой, то неси ответственность за него. А ты безответственна. Человек занимает большое положение, воюет, а жена его в это время таскает передачи арестованному. Ты знаешь, чем это может для него кончиться?
— Знаю.
— Да ты его любишь вообще-то?
— Оставь ты, ради Бога, — сказала Женя плачущим голосом и подумала: «Кого же я люблю?»
— Нет, ты отвечай.
— Не могла я иначе поступить, ведь не для удовольствия люди обивают пороги Лубянки.
— Надо думать не только о себе.
— Вот я и думаю не о себе.
— Виктор тоже так рассуждает. А в основе один лишь эгоизм.
— Логика у тебя невероятная, — с детства меня поражала. Ты это называешь эгоизмом?
— Да чем ты можешь помочь? Приговора ты не изменишь.
— Вот, Бог даст, тебя посадят, тогда узнаешь, чем могут помочь тебе близкие люди.
Людмила Николаевна, меняя разговор, спросила:
— Скажи-ка, невеста без места, у тебя есть Марусины фотографии?
— Только одна. Помнишь, когда в Сокольниках снимались.
Она положила голову на плечо Людмиле, жалуясь, произнесла:
— Я так устала.
— Отдохни, поспи, не ходи сегодня никуда, — сказала Людмила Николаевна, — я тебе постелю.
Женя, полузакрыв глаза, покачала головой.
— Нет-нет, не надо. Жить я устала.
Людмила Николаевна принесла большой конверт и высыпала на колени сестре пачку фотографий.
Женя перебирала фотографии, восклицала: «Боже мой, Боже мой… эту я помню, снимались на даче… какая смешная Надька… это после ссылки папа снимался… вот Митя гимназистом, Сережа на него удивительно похож, особенно верхняя часть лица… а вот мама с Марусей на руках, меня еще не было на свете…»
Она заметила, что среди снимков не было ни одной фотографии Толи, но не спросила у сестры, где Толины фотографии.
— Ну что ж, мадам, — сказала Людмила, — надо тебя обедом кормить.
— Аппетит у меня хороший, — сказала Женя, — как и в детстве, волнения на нем не отражаются.
— Ну, и слава Богу, — сказала Людмила Николаевна и поцеловала сестру.
24
Женя сошла с троллейбуса у испещренного маскировочными полосами и запятыми Большого театра и стала подниматься по Кузнецкому мосту мимо выставочных помещений Художественного фонда, где до войны выставлялись знакомые ей художники и где когда-то выставлялись ее картины, прошла и даже не вспомнила об этом.
Странное чувство охватило ее. Ее жизнь, как колода карт, стасованная цыганкой. Вдруг выпала ей Москва.
Она издали увидела темно-серую гранитную стену могучего дома на Лубянке.
«Здравствуй, Коля», — подумала она. Возможно, Николай Григорьевич, ощущая ее приближение, волнуется и не понимает, почему волнение охватило его.
Старая судьба стала ее новой судьбой. То, что, казалось, навсегда ушло в прошлое, стало ее будущим.
Новая просторная приемная, выходившая зеркальными окнами на улицу, была закрыта, и прием посетителей производился в помещении старой приемной.
Она вошла в грязный двор и прошла мимо обшарпанной стены к полуоткрытой двери. Все в приемной выглядело удивительно обыкновенно, — столы в чернильных пятнах, деревянные диваны у стен, окошечки с деревянными подоконниками, где давались справки.
Казалось, не было связи между каменной, многоэтажной громадой, выходившей стенами в сторону Лубянской площади, Сретенки, Фуркасовского переулка, Малой Лубянки, и этой уездной канцелярской комнатой.
В приемной было людно, посетители, в большинстве женщины, стояли в очереди к окошечкам, некоторые сидели на диванах, старик в очках с толстыми стеклами заполнял за столом какой-то листок. Женя, глядя на старые и молодые, мужские и женские лица, подумала, что у всех у них много общего в выражении глаз, в складке рта, и она могла бы, встретив такого человека в трамвае, на улице, догадаться, что он ходит на Кузнецкий мост.
Она обратилась к молодому вахтеру, одетому в красноармейскую форму и почему-то не похожему на красноармейца, и он спросил ее:
— В первый раз? — и указал на окошечко в стене.
Женя стояла в очереди, держа в руке паспорт, ее пальцы и ладони от волнения стали влажными. Женщина в берете, стоявшая впереди нее, вполголоса говорила:
— Если нет во внутренней, надо поехать на Матросскую Тишину, потом в Бутырскую, но там в определенные дни по буквам принимают, потом в Лефортовскую военную тюрьму, потом снова сюда. Я сына полтора месяца искала. А в военной прокуратуре вы уже были?
Очередь продвигалась быстро, и Женя подумала, что это нехорошо, — наверное, ответы были формальные, односложные. Но когда к окошечку подошла пожилая, нарядно одетая женщина, произошла заминка, — шепотом друг другу передавали, что дежурный пошел лично уточнять обстоятельства дела, телефонного разговора оказалось недостаточно. Женщина стояла вполоборота к очереди, и выражение ее прищуренных глаз, казалось, говорило о том, что она и здесь не собирается чувствовать себя ровней с убогой толпой родственников репрессированных.
Вскоре очередь опять стала подвигаться, и молодая женщина, отходя от окошечка, негромко проговорила:
— Один ответ: передача не разрешена.
Соседка объяснила Евгении Николаевне: «Значит, следствие не кончилось».
— А свидание? — спросила Женя.
— Ну что вы, — сказала женщина и улыбнулась Жениной простоте.
Никогда Евгения Николаевна не думала, что человеческая спина может быть так выразительна, пронзительно передавать состояние души. Люди, подходившие к окошечку, как-то по-особому вытягивали шеи, и спины их, с поднятыми плечами, с напружившимися лопатками, казалось, кричали, плакали, всхлипывали.
Когда Женю отделяло от окошка шесть человек, окошечко захлопнулось, был объявлен двадцатиминутный перерыв. Стоявшие в очереди сели на диваны и стулья.
Были тут жены, были матери, имелся пожилой мужчина — инженер, у которого сидела жена, переводчица из ВОКСа; была школьница-девятиклассница, у которой арестовали мать, а папа получил приговор — десять лет без права переписки в 1937 году; была слепая старуха, которую привела соседка по квартире, она узнавала о сыне; была иностранка, плохо говорившая по-русски — жена немецкого коммуниста, одетая в клетчатое заграничное пальто, с пестрой матерчатой сумочкой в руке, глаза у нее были точно такие же, как у русских старух.
Были тут русские, армянки, украинки, еврейки, была колхозница из московского пригорода. Старик, заполнявший за столом анкету, оказался преподавателем Тимирязевской академии, у него арестовали внука, школьника, по всей видимости, за болтовню на вечеринке.