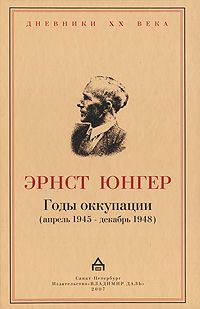Эрнст Юнгер - Годы оккупации
Приговор был вынесен в районе Кёльна. Для исполнения приговора осужденного в сопровождении двух солдат охраны направили обратно в Вильгельмсгафен. В два часа ночи была пересадка, и они остались в Хам-ме дожидаться следующего поезда. Старший в наряде, унтер-офицер, в пути познакомился с девушкой и отправился с ней в зал ожидания. Хаазе остался со вторым стражником, ефрейтором, на перроне. Там уже стоял другой поезд, готовый к отправлению. Вдруг завыли сирены, начинался воздушный налет; свет погас. Хаазе услышал рядом с собой голос: «Начинается посадка на скорый поезд на Ганновер, поезд отправляется немедленно». Как во сне, он последовал этому приглашению и ушел от своего сторожа, и тот не сразу это заметил в начавшейся толчее у дверей. Ему удалось как-то миновать контроль, и так он очутился в Ганновере, где жила его жена, там он раздобыл денег, гражданское платье и велосипед. Он скрывался у крестьян в Нижней Саксонии и перебивался, работая электриком в деревнях и маленьких городках. Однажды, кажется, это было в Бургведеле, он работал у начальника полиции, и там ему даже повезло увидеть на столе объявление о своем розыске. Девять месяцев он так и жил с пистолетом в кармане, готовый тут же застрелиться, если его арестуют. Затем пришли американцы.
Глядя на него за кофейным столом, я спрашивал себя, как же ему все-таки удалось спастись от систематических преследований. Очевидно, причину следует искать в совершенной безобидности, которая делает честь его фамилии(Хаазе (Haase) букв. заяц.) и которая укрыла его подобно защитной окраске.
Его жизнь была спасена с той же неизбежностью, с какой Эрнстель шел навстречу смерти. Нам не разрешить этих загадок, пока мы скованы узами времени.
Кирххорст, 10 июня 1945 г.Иеремия, плач. Эти плачи наполняются необычайно современным содержанием.
«Наследие наше перешло к чужим, домы наши — к иноплеменным; мы сделались сиротами, без отца; матери наши — как вдовы. Отцы наши грешили, а мы несем наказание за беззакония их. Рабы господствуют над нами, и некому избавить от руки их. Старцы уже не сидят у ворот, юноши не поют».(Ветхий Завет. Плач Иеремии, 5, 3—14.)
Я читал эти слова, как вижу по отметкам на полях, в Рождество 1939 года на Рейнских позициях близ Грефферна и в декабре 1942 года в Ворошиловске, на подступах к Кавказу. Мы мним, что проезжаем с этой книгой по городам, но, возможно, города — это не что иное, как только наглядные примеры. Мы путешествуем по этому тексту.
Духовный и эмпирический уровни. Заметки к «Рабочему». Духовная кампания, план в его низших и высших категориях развертывается по образу и подобию плана мироздания, который включает в себя смерть и страдание. Поэтому он абстрагируется от боли. Великий план располагается над колесами, он «богоравен». Зато на эмпирическом уровне ты проживаешь личную, выстраданную судьбу; боль — это человеческая реальность. Это приводит к трагическим совпадениям в душе отдельного человека, который является как планирующим, так и страдающим существом.
Политическое, стратегическое решение ставит под угрозу тысячи и тысячи людей, каков бы ни был его характер, следовательно, и бездействие тоже. Комендант крепости, который должен ее удерживать, действует по закону плана, на духовном уровне. В то же время крепость есть и то эмпирическое место, где страдают и погибают он и его соратники. Это часть пережитого нами опыта.
До этого момента все просто, хотя и не бесспорно. А вот что трудно дается пониманию отдельного человека, это то, что он сам играет роль коменданта, на духовном уровне. Он тоже причастен к сотворению плана, к идеальной схеме, путем ли действия или бездействия, но он всегда несет ответственность. Нет ничего такого, что он не мог бы принять, и ничего, что не мог бы отвергнуть. Отдельный человек может изменить мир, будь то посредством дела или посредством страдания, причем в любой момент. Ему решать, быть этому миру или погибнуть. Он — суверенная личность и, осознав это, становится обладателем величайшей власти. Мир для него — его материя и его мечта. Мир всегда — его образ и подобие. Этому учит миф, учит история и священная история, этому учит философия. Так, например, для христианина, который осознает себя комендантом своей крепости, своей «твердыни»,,[67] Христос становится не только образцом, которому он следует, но и существенной и действенной частью его личности, становится миропреобразующей силой, которой он причастился. Эта сила сокрушает империи.
Когда план становится самодовлеющим, когда он словно бы абсолютизируется, возможно предположить разное. Возможно, это связано с тем, что отдельные люди уже уступили слишком много из своих запасов субстанции, суверенитета, собственной судьбы, будь то в поддержку плана, будь то потому, что их начинает тяготить собственная ответственность. Без согласия невозможно никакое принуждение. Можно также предположить, что на нашей планете, где находится наше эмпирическое местопребывание, мировой план переживает сейчас кризис, что он вступил в новую фазу, которая отражается на человеческих планах и требует платы авансом. «Человек» подталкивается к тому, чтобы перейти на новую стадию, которая, с одной стороны, требует от него повышенной активности, «работы», а с другой — страдания. И он выполняет то и другое требование с радостью и с болью.
Великое ликование, которое сопровождает планы и нарастает гигантской волной, когда они переходят в катастрофическое качество, напоминает собой странствие по пустыне, при котором возникают видения. Являются пророки и вещают о стране обетованной. Хорошо будет детям. Но какое значение имеет то, что человеческие планы sub specie aeternitatis(Под знаком вечности (лат.).) развеиваются как дым, причем тем вернее, чем умнее они замыслены? За великим множеством планов и утопий должен скрываться иной, неизменный план, который мы воссоздаем в несовершенном мире. Крушение — неотъемлемая часть плана. Поэтому тут должно действовать и что-то другое, ускользающее от понимания, некая пророческая, трансцендирующая субстанция. Коловращение планов происходит в преддверии. Они суть бренные отображения Вечного града средствами человеческой архитектуры. Они суть малость, но значат много. В готических городах все дома крошечные, они, словно ласточкины гнезда, лепятся возле каменной твердыни собора. В городах мирового значения церкви незаметно прячутся в тени банковских зданий. Там, где план остается в рамках преддверия, он оказывается более осмысленным, как например там, где он нацелен на строительство храмов и гробниц, занимается конструированием передних помещений, предваряющих вступление в горнюю жизнь и вместилище Страшного суда. В этих случаях он и в отношении долговечности оказывается не столь быстротечным. Может быть, памятные знаки пирамид пребудут и тогда, когда наше эмпирическое местопребывание обратится в груду каменных обломков, опустелое и покинутое обитателями. В их чертежах был лучше угадан мировой план.
Это приводит нас к теме рабочего. Его планы, как и все прочие, могут быть только эпохальными; и для него крушение также является неотъемлемой частью плана. Правда, катастрофы не могут нанести ему ущерб. Они, скорее, работают на него, способствуют его продвижению, хотя бы потому что разрушают экономические оковы, в то время как образ рабочего невредимо шествует сквозь охваченный огнем мир, возрастая духовной мощью. Тут предвидятся еще великие свершения. Для эмпирического поступательного развития созданы все необходимые условия благодаря интенсивной и притом слепой воле, а также большому запасу ненадломленных и еще нетронутых резервных сил.
Опасения может внушать только смена духовной позиции: ее предвещают сомнения, легкое отвращение среди элиты к зрелищу, наметившееся утомление, которое опаснее самой катастрофы. Тут должны выступить на сцену новые образы, новые пророки.
Подобные повороты могут происходить почти незаметно. Это ближе к химическому нежели к физическому процессу, он состоит в демифологизации: утопии частью достигнуты, частью оставлены позади и потому утрачивают свое обаяние. Мир труда предстает в другой перспективе, подчиняется субординации. Рабочий отодвигается на второстепенное место иерархии, ставится в рамки его материалистической схемы, ему отводится роль обслуживающего брата, в то время как новые духовные вожди уже заняты новыми идеями. Этому способствует стремление к усовершенствованию, которое лишает средства их революционного характера. Первый голод уже утолен. Гигантский улей наполняется ячейками, которые требуют уже иной пищи, а с приходом внуков туда проникают новые паразиты.
Меняются роль и задачи скепсиса. Он подталкивает ход диалектических процессов в их героической фазе и тормозит их после ее завершения под личиной taedium vitae(Отвращение к жизни, пресыщенность (лат.).) — явления, распространяющегося в мирное время золотого века. Сначала скепсис ухватывается за модификации генерального плана, оставаясь на его ковре, в рамках господствующих банальностей. Смертельные враги даже не подозревают, до чего сходны их язык, их символика. Они схожи между собой как зеркальные отражения, как поддерживающие друг друга арки. Непримиримость возрастает вместе с тонкостью расхождений, как это было на великих церковных соборах, где спор шел о богоравенстве или богоподобии.