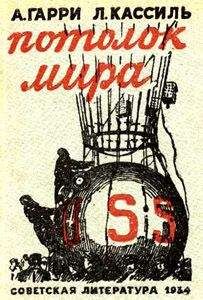Камиль Лемонье - Конец буржуа
Барбара возделала всю эту обширную территорию. Чтобы избежать разорения, она каждый год за умеренную цену сдавала эту плодородную землю в аренду и таким образом поделила ее на множество мелких участков. В своих лесах она установила ограничения на рубку и подрезку деревьев и доверила следить за этим самим же крестьянам, которые сучьями и ветвями топили печи. В определенное время деревенские жители имели право охотиться на дичь, каждому выделяли потом известную часть добычи, — все остальное передавалось владелице. И так как каждая семья получала свою долю дичи и дров, общие интересы объединяли всех, удерживая от браконьерства и грабежа. За пятнадцать лет вмешательство судьи потребовалось только один раз, да еще как-то, когда преступники иного рода, крупные лесопромышленники, навлекли на себя гнев старухи: воспользовавшись тем, что лес продавался на сруб, они поспешили захватить запретные участки. К людям богатым Барбара умела быть жестокой, но всякий раз, когда дело касалось обездоленных, сердце ее было полно сострадания. Руководствуясь голосом собственной совести, старуха нашла возможным переделать на свой лад строгие права собственности, и сделала так, что собственность эта перестала возбуждать в людях зависть и хищнические инстинкты.
Жан-Элуа всегда был ее любимым сыном. Он был ее первенцем и, как ей казалось, тем самым был ближе к истокам семьи, чем все остальные, ближе к той первой любви, которая, зачав его, пробудила в пей материнское чувство. Это предпочтение как-то само собою укоренилось в ее сердце простолюдинки, и она передала его своим младшим детям. Несмотря на то, что разница между ними в годах была не так уже велика, она всегда говорила о старшем сыне как об их втором отце, как об опоре семьи. И Барбара воспитала своего любимца так, как будто, став главою рода Рассанфоссов, он действительно должен был распространить свою власть на всю их династию. Именно ему она собиралась перед смертью передать управление делами и все то влияние, которым пользовалась у детей и внуков. Но здоровье ее было достаточно крепко, неизвестно было, когда еще наступит это последнее отречение, и вместе с тем она уже достаточно прожила, чтобы видеть, как надежды ее рушились, как сын ее, по мере того как он вырастал в общественном мнении, все меньше и меньше походил на Жана-Кретьена V. У нее был свой, особый взгляд на богатство, и она старалась, чтобы жизнь ее протекала в согласии с ее убеждениями. Она считала, что богатство — это ссуда, полученная от провидения, некая инвеститура, которая священна и дается только на время, и что господь бог, даровав человеку богатство, отнимает его, если человек этот злоупотребит им. Отрешаясь от всего личного, она как бы олицетворяла собою весь свой род; она была убеждена, что у отцов есть обязанности, сходные с теми, которые берут на себя вожди племени. Они точно так же воздвигают дома для грядущих поколений, заботятся об их судьбе, разрыхляют землю, на которой впоследствии вырастает величие потомков.
Но сколько бы человек ни мог поглотить богатства, у него всегда еще остается какой-то излишек. Так вот, надо, чтобы этот излишек уменьшил бездонные пропасти человеческого страдания и горя.
— Человеку дано распоряжаться только одной частью своего богатства, — любила говорить она, — другая принадлежит богу и тем, у кого на свете нет ничего, кроме бога, кто живет только его милостями. Эти люди умирают, когда господь оставляет их, и спасти их могут только те избранники его, которых он посылает на землю и которым он дарует силу и власть.
Теперь же мезальянс, совершенный Гисленой, и ружейные выстрелы в Ампуаньи открыли старухе глаза на порочность ее потомства. Она не могла отрешиться от мысли, что с этим безрассудным браком связана какая-то тайна; она спрашивала себя, зачем понадобилось так унижать их чистую рабочую кровь, которой она так гордилась, зачем было смешивать ее с этой мутью, которая текла в жилах дворян, исконных врагов ее рода. И Барбара почувствовала, что на место безраздельной, слепой привязанности к старшему сыну пришло тяготение к младшему, к его мирному дому.
Супруги Жан-Элуа были крайне удивлены, когда узнали, что вместо того чтобы ехать к дальней родственнице Бет, старуха Рассанфосс, никогда без настоятельной необходимости не покидавшая родного города, решила провести целую неделю в семье своего второго сына, Жана-Оноре. Очутившись среди этих образованных и отзывчивых людей, она обрела ту истинную простоту, которая была ей так по душе. Вильгельмина, изящная и несколько сентиментальная блондинка, воспитанная матерью в христианском духе, пленила ее своей предупредительностью, нежной заботой, скромным образом жизни и благочестием, которое супруг ее, хотя он и был человеком передовых взглядов, спокойно сносил. В их богатом особняке на авеню Дезар не было ничего кричащего и он вполне соответствовал образу жизни его владельцев. Видно было, что здесь живет человек науки и труда, и сама строгость царившего здесь комфорта свидетельствовала о том, с какой серьезностью хозяин дома относится к своей профессии адвоката.
Первый этаж того дома, где расположился сам Жан-Оноре со своими помощниками, три больших комнаты, уставленные шкафами с книгами в черных сафьяновых переплетах, строгая мебель, хорошо гармонировавшая с представительным обликом хозяина, несколько тяжеловесные гостиные, где не было ни одной изящной вещи, ни одной безделушки, никакого следа прикосновения женской руки, — все это являло собою полную противоположность великолепным мраморным статуям, картинам, отделке комнат, всему тому блеску, который бросался в глаза в доме Жана-Элуа.
Супруги Жан-Оноре жили довольно скромно. Лошадей они не держали, за всю зиму устраивали не больше трех-четырех приемов, а на лето уезжали к морю, где жили с поистине деревенскою простотой.
Та жажда наживы, которой был одержим Жан-Элуа, не горячила крови его брату, трудолюбивому оратору и законоведу, любителю книг, не умевшему гордиться своим даром красноречия и высокой должностью адвоката и не питавшему ни малейшего пристрастия к роскоши и помпе. Состоянием своим они распоряжались разумно: у них не было миллионов, которые вскружили голову Жану-Элуа. Адвокатура давала Жану-Оноре около пятидесяти тысяч франков в год. Помимо этого, были еще проценты с приданого его жены и его собственного капитала, из которых они не проживали и половины.
В течение десяти последних лет Жан-Оноре состоял юрисконсультом крупнейшего финансового предприятия страны, Национального кредитного общества, которое занимало столь же твердое положение, как и Государственный банк. Оно было основано королем биржи, Исааком Орландером, произведенным в бароны за свою щедрую филантропическую деятельность. Когда он умер, вдова, у которой осталась после него дочь, пригласила Жана-Оноре отстаивать ее интересы в тяжбе. Речь шла о поместье «Маркиз», которое оспаривал ее сосед, граф де Бреан. Жан-Оноре выиграл ей дело, и с тех пор у них завязались дружеские отношения. Адвокат оказался человеком достаточно практичным: он ввел к ней в дом своего сына Эдокса, а тот, начав ухаживать за вдовой, сумел использовать новое знакомство в своих интересах. Это было поистине ловким ходом — жениться на той, которая все еще продолжала называться прекрасной Орландер, хотя ей и было уже за сорок и ее вызывающая красота начинала клониться к закату. Эдоксу было тогда всего тридцать два года. Он был адвокатом, как и его отец. После блестящего выступления на одном громком процессе он занялся частной практикой. Красивая внешность сочеталась в нем со светским лоском и несколько надменной осанкой. Он красноречиво говорил, умел быть душою общества, ездил верхом, занимался фехтованием, пользовался большим успехом у дам.
Эдокс проявил достаточную сообразительность и навсегда распростился с г-жой де Робюар, с которой находился в связи в течение целых пяти лет и которая дарила его самой пылкой любовью. Он променял ее на богатую баронессу, отказавшуюся от вдовства и передавшую в его руки все свое состояние. Этот ловкий трюк, которому завидовал Жан-Элуа, был проделан с большой осторожностью и еще раз подтвердил, что у Рассанфоссов расчет точный.
Попав в этот отлично устроенный дом, где прежде она почти не бывала, в дом, который по-настоящему она узнавала сейчас впервые, старуха была растрогана почтительностью всех его обитателей. Преклонные годы бабки и воспоминания, которые она вызывала в семье, — все это заставило их окружить ее настоящим культом. Им казалось, что весь героизм легендарных предков, трудившихся в шахте, оживает в каждом ее движении и в каждом шаге. Старуха видела, что любая ее прихоть немедленно исполняется, что каждое слово ее слушают как библейскую истину, и ей не приходило даже в голову, что почтительность эта не совсем искренна и что за ней, может быть, скрываются какие-то тайные расчеты ее невестки. Вильгельмина, которая теперь сама уже давно воспитывала своих детей, вспоминала, что когда-то она была послушнейшей из дочерей, и стала очень заботливо ухаживать за свекровью, как будто та была ее собственной матерью. Внучки старухи, эгоистичная и своевольная Сириль, добрая Лоранс и внук, Эдокс, приходивший иногда в родительский дом, всячески старались вознаградить ее за холодность других внуков — детей Жана-Элуа и уверить ее, что они-то и есть подлинные отпрыски старых Рассанфоссов. Помимо них, у Жана-Оноре была еще одна дочь, Ирен, которая находилась сейчас в пансионе.