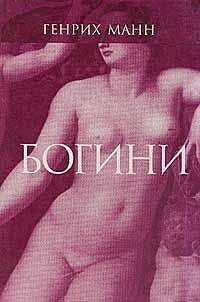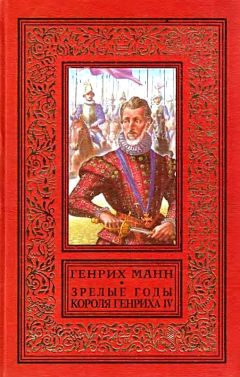Генрих Манн - Минерва
Он устал, осмотрелся, ища какого-нибудь сиденья, и не нашел ничего. Он опустился на колени подле меня и стал умолять меня, кроткий и слабый, как дитя. Вдруг он опомнился и принялся хвалить мою удачную шутку. Я заметила, что у него стучат зубы. Я больше не позволяла его трясущимся рукам прикасаться к моему телу. И, наконец, он стал стонать, извиваясь предо мной, уничтоженный, в слезах. Я подождала, пока он бросился на меня в последний раз, отчаявшись, почти без желания. Он тотчас же раскаялся в этом и улыбнулся так любезно, как улыбается только он; он как будто хотел сказать: «Простите, такому благовоспитанному человеку, как я, не подобает так вести себя, я отлично знаю это, но в какие странные положения можно попасть»… Затем он медленно опустился на пол, дрожа от усталости и возбуждения. Свечи погасли, за коврами наступило утро. Я бросила ему одеяло: это была единственная милость, которую я из сострадания оказала ему в эту ночь любви. Ни одного слова я не сказала ему в эту ночь любви.
— Вы отомстили, — сказала герцогиня. — Вы должны быть довольны.
— Вполне довольна, — подтвердила Проперция. — Мне не нужно больше ничего. Теперь он ежедневно спрашивает меня, порвать ли ему со своей невестой. Я заявляю ему, что это лишнее. Он умоляет позволить ему отдать свою жизнь на служение мне. — Слишком поздно, — отвечаю я. — Он будет всюду следовать за мной. Он отступит, предсказываю я ему, как только увидит, что Проперция отважилась пойти слишком далеко.
— Как он несчастен! — воскликнула герцогиня.
— Да! Как мы несчастны! — пробормотала Проперция.
Клелия и Мортейль ускорили день своей свадьбы. Накануне, в сумерки, к герцогине явился хромой слуга Проперции, рыдая от ужаса: его госпожа при смерти.
Герцогиня подъехала к дому Проперции. Канал был заполнен гондолами. На грузовое судно спускали огромный мрамор: Любящих в аду. Граф Долан отдавал приказания рабочим, съежившись в своем платье, морщинистый и властный.
— Вот оно! — воскликнул он, увидя герцогиню. — Ее последнее творение — мое. Разбитую беспорядочную силу Проперции, погубленную ею самой, — я, я один еще раз вернул к жизни. Это творение вырвано у небытия, в которое уже была погружена Проперция, — и вырвал его я!
— Что же дало вам эту возможность?
— Нечто совершенно простое, — пояснил старик, и в морщинах его ухмылявшегося лица мелькнули одновременно насмешка и любовь. — Обладание ее душой!.. Не изумляйтесь, герцогиня. Душой Проперции она сама называет свою милую Фаустину. Это старая мраморная голова, она когда-то выкопала ее из римской земли, из которой вышла сама. Проперция принадлежит тому, кто владеет ее душой; а эту последнюю я запер в своем дворце. Я сказал Проперции: «Работай! Пока ты не кончишь работы, я буду показывать тебе Фаустину только через замочную скважину в конце моих зал. И даже твоим слезам я не позволю просочиться сквозь скважину…» Она работала. Теперь я должен был, согласно нашему договору, принести ей ее душу. Она в комнатах, взгляните на нее, герцогиня! Еще немного, и она уйдет навсегда.
Старик опять обратился к носильщикам. Герцогиня вошла в опустевшую мастерскую. В середине одиноко стояла голова, стертая, точно восковая, с разбитым носом и поврежденным черепом. Ее черты расплывались в сиянии вечернего неба; казалось, они возвращались обратно в мраморную глыбу, из которой вышли когда-то. Они показались герцогине целомудренными, величественными, не знающими счастья, как сама Проперция. Она подумала:
«Да, это ее сильная и богатая любовью душа! Она вызвала ее к жизни из того же поля, в которое когда-то втоптал ее бродяга. Она отдала ее молодому человеку, который однажды повертел ее в руках и нашел, что она „недурно сделана“. Он подарил ее старому ростовщику, и Проперция, чтобы выкупить ее, рассказала то, что знала о муках осужденных любящих. Теперь она умирает. Пойти ли мне туда, в одну из тех комнат, где любопытные глазеют на конец тела Проперции? Я лучше останусь здесь и буду думать, что я одна удостоилась заглянуть ее душе в уже стертое, уже наполовину ушедшее от нас лицо».
Дверь открылась. По гулким плитам быстро прошел священник, держа в руках что-то накрытое, казалось, внушавшее ему страх и гордость. За ним шел мальчик, размахивавший кадилом. Они исчезли.
Герцогиня вошла в глубокую оконную нишу; она вспомнила, что первые жалобы Проперции услышала в полумраке такой же ниши в Риме. Вдруг она увидела бюст Мортейля. На его лбу, изящном, слабом и скептическом, был узкий лавровый венок. На пьедестале лежал листок, герцогиня прочла при последних лучах солнца:
I'son colei che ti die' tanta guerra
E compie'mia giornata innanzi sera.
— Да, это победитель, — прошептала она. — Он может теперь стать перед своим увенчанным бюстом и любоваться собой и своей победой. Побежденная шлет ему изъявление покорности: «Вот я, так много боровшаяся с тобой и окончившая свой день раньше вечера».
«Это победитель. Я спрашиваю себя: неужели великая, страстная женщина не могла раздавить своими каменными плечами слабого насмешника? Если же тонкости предназначено жить дольше, чем силе, — почему тогда умерла бедная Бла: она, прелестное создание духа, ставшее подчиненной вещью и беззащитной жертвой красивого животного! Я спрашиваю себя, как тогда: откуда грозит такая судьба, и кому не грозит она?»
И как тогда, ей стало страшно.
Она вышла. На улице она опять встретила Долана; на скулах у него играл счастливый румянец.
— И это тоже будет моим! — воскликнул он. — И кинжал!
— Кинжал…
— Которым она сделала это… Вы понимаете, герцогиня, пока на него наложил руку суд. Но я уже обеспечил его себе. Это работа самого Риччио. На рукоятке находится великолепное чудовище из слоновой кости, Венера-Астарта с двенадцатью грудями!..
Ей пришлось долго ждать, пока ее гондола смогла подъехать. Она села в нее и, остановившись среди других гондол, заградивших канал, стала ждать. Здесь были мужчины и женщины из всех стран; слышался шепот на всех языках: «Она умирает». На мостах и в переулках, черных и сырых от сирокко, теснился народ. Женщины перегибались через перила, и их черные платки развевались над черной водой. Они шептали: «Проперция умирает».
Из дома вышел священник, — его руки дрожали под сукном, — и быстро пошел по узкому берегу. Мальчик за ним размахивал кадилом. Прошло еще несколько минут. И вдруг в ближайшей церкви зазвонил колокол. Он звонил громко и торопливо, — своей деловитой торопливостью он заглушал свой страх.
В черной толпе на мостах и в переулках пробежал несмелый ропот. Женщины в гондолах зарыдали. Чей-то молодой голос, ясный и дрожащий, сказал:
— Проперция умерла.
Герцогиня сделала лодочнику знак отъезжать. Левой рукой она прикрыла глаза.
III
В последовавшие за этим недели она подолгу была одна. Она бродила по Венеции, и всюду за ней следовала мертвая Проперция. Она осыпала бледную спутницу вопросами, полными разочарования и обвинений, но не получала ответа. Она возвращалась домой, и на террасе ее ждала гигантская белая фигура женщины, вонзавшей кинжал в свою грудь. «Неужели это ответ?» — восклицала она, измученная и гневная.
Но она чувствовала, что это угроза.
Она входила в свой художественный кабинет.
«Так вот каков был смысл любовного шепота, жужжанием которого была наполнена эта комната, — переливавшегося яркими красками, легкокрылого, сластолюбивого и бесцельного. Желание, обольщение, хитрости, любовные игры — они носились здесь, как прелестные насекомые, по стенам, по ногам Паллады и оливковым ветвям, вьющимся вокруг нее. Мы следили за ними, очарованные и улыбающиеся. Теперь они, точно шутя, влетели в открытую могилу. Мы стоим перед ней и не можем этого понять».
И она долго неподвижно стояла, не отрывая глаз от земли; она разверзалась перед ней.
Но потом ее опять охватывало жгучее презрение, точно к родственнице, запятнавшей фамильную честь.
«Как могло это произойти! — говорила она невидимой. — Твоя душа похожа на памятник, более долговечный, чем город, в котором он воздвигнут. Каждое из твоих слов — медаль; не один из тех, кого ты знала, переживет свою эпоху — как тот император, который исчез бы бесследно, не будь монеты, которую находит в борозде крестьянин. Твои чувства слагаются, как стихи, сильнее меди и долговечнее богов. Непокорная скала носит на себе печать твоих грез».
Она часто повторяла себе эти слова: строфы, изваянные во славу искусства художником, принадлежавшим ему. Наконец, она сказала себе, успокоенная и проникнутая торжественностью:
— Как можешь ты быть мертвой, когда я, не переставая, чувствую в своей душе твою руку. Она творит в ней все новые образы. Обширные страны, которые заключены в ней, ты населила твоими полубогами, замкнутыми, медлительными, сильными и не знающими смеха, — какими желала я их и какими создала их ты: ты, созидательница.