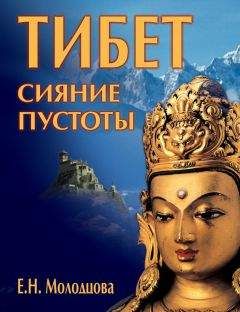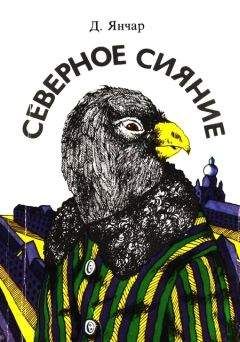Джон Голсуорси - На Форсайтской Бирже (Рассказы)
Он сел сбоку, у стены, и замечтался — у Джемса это всегда было серьезное дело, неразрывно связанное с помещением капитала. Сомс теперь уже полноправный компаньон в фирме — что ж, мальчик подает надежды — сумел привлечь новых клиентов. А этот дом на Брайанстон-сквер — срок аренды кончается в сентябре — при пересдаче надо сотню накинуть, принимая в расчет те усовершенствования, что сделал прежний квартирант. К следующему кварталу очистится тысчонки две, надо бы вложить в ценные бумаги. Только вот в какие? Кэптаунские Медные — ну, не знаю! — Николас советует Мидлендские. А этот молодчик, Дарти, все пристает с Аргентинскими — нет уж, извините, до них я и щипцами не дотронусь! Подавшись вперед, опираясь скрещенными руками на ручку зонтика, он сидел, вперив взор в застекленную крышу, словно ожидая оттуда некоей благой вести, и его гладко выбритые губы между седеющих бакенбард чувственно налились, как бы уже смакуя дивиденды.
— Коллекция Уильяма Смелтера, эсквайра, с Рассел-сквер.
Ну, теперь пойдет болтовня! Как полагается. «Известный коллекционер», «шедевры голландской и французской школы», «редкий случай», «знаток» — чего только не нагородят! Вот уж нашли знатока — Смелтер покупал свои картины на ярды!
— Номер первый: Бронзино — «Амур и Психея». Леди и джентльмены, какую мы назначим исходную цену для этой замечательной картины, доподлинного шедевра итальянской школы?
Джемс иронически хмыкнул. Тоже знаток — со своим «Амуром и Пискеей»!
К его удивлению, аукцион пошел живо, и верхняя губа Джемса начала вытягиваться, как всегда, когда разгорался спор о ценах. Наконец, раздались три удара молотком, и Бронзино убрали. Вместо него поставили Снайдерса. Джемс безучастно глядел, как продавали картины одну за другой. В комнате было жарко, его клонило в сон. И зачем только он пришел? Лучше было бы подремать в клубе или прокатиться по парку с Эмили.
— Как? Нет желающих на Гондекутера? Этот замечательный большой шедевр?
Джемс уставился на огромную, водруженную на мольберт картину; с обоих концов ее поддерживали служители. Полным-полно кур и перьев, плавающих в крохотном прудике, а большой белый петух поглядывает на воду, как будто собрался купаться. Все в темных желтоватых тонах, только петух посветлее.
— Ну же, господа! Знаменитый художник, несравненный изобразитель домашней птицы. Скажем, пятьдесят фунтов? Сорок? Кто даст сорок фунтов? Это же все равно что даром. Ну хорошо, тридцать, для начала. Посмотрите на этого петуха! Мастерская кисть! Ну же! Предлагайте цену. Я приму любую.
— Пять фунтов, — сказал Джемс, заслонив рот ладонью так, чтобы никому, кроме аукциониста, не было понятно, откуда идет голос.
— Пять фунтов — за это оригинальное произведение величайшего живописателя домашней птицы! Вы сказали, десять фунтов, сэр? Идет за десять фунтов!
— Пятнадцать, — пробурчал Джемс.
— Двадцать.
— Двадцать пять, — сказал Джемс. Он решил не давать больше тридцати.
— Идет за двадцать пять фунтов — одна рама дороже стоит! Кто сказал тридцать?
Но никто не говорил тридцать — и картину присудили Джемсу. У него даже рот слегка разинулся. Он вовсе не собирался ее покупать — но ведь такая дешевка! — это размер всех отпугнул; Джолион заплатил сто сорок за своего Гондекутера. Ну что ж, как раз прикроет пустое место над лестницей. Джемс подождал, пока продали еще две картины. Затем, оставив свою карточку и указания насчет отправки Гондекутера, пошел пешком по Сент-Джемс-стрит и дальше, домой.
Он застал Эмили в ту минуту, когда она с Рэчел и Сисили садилась в ландо. Но сопровождать их он отказался: побаивался, как бы не стали расспрашивать, где он был и что делал. Войдя в опустевший дом, он сказал Уормсону, что неважно себя чувствует — печень пошаливает, — пусть подадут ему чашку чая и булочку, ничего больше. На лестнице он постоял немного, глядя на голую стену. Вот повесят сюда Гондекутера, она уже и не будет такая голая. Что еще Сомс скажет: после заграничной поездки мальчик стал интересоваться картинами. Ладно, во всяком случае, он заплатил за нее ниже рыночной стоимости. И, пройдя в гостиную, Джемс выпил свой китайский чай, крепкий, со сливками, и съел две булочки. Если завтра не полегчает, надо будет позвать Дэша, пусть посмотрит.
На следующее утро, уходя в контору, он сказал Уормсону:
— Сегодня привезут картину. Возьмите себе в помощь Хента и Томаса повесить ее надо вот здесь над лестницей, на самой середине. Лучше всего, когда миссис Форсайт не будет дома. Вносят пусть с черного хода — она большая, 11 футов на 6. И поосторожней — не поцарапайте краску.
Когда он вернулся, на этот раз довольно поздно, Гондекутер уже висел. Он как раз заполнил пустое место, но так как свет был слабый, а картина темная, то на ней ничего нельзя было разглядеть. Тем не менее Джемс в общем остался доволен.
Эмили сидела в гостиной.
— Джемс, — обратилась она к мужу, когда он вошел, — скажи, пожалуйста, что это за гигантская картина у нас на лестнице?
— Это? — сказал Джемс. — Это Гондекутер. Из Смелтеровской коллекции. Купил на аукционе по дешевке. У Джолиона на Стэнхоп-Гейт тоже есть Гондекутер.
— В жизни не видала такой громадины!
— Что? — сказал Джемс. — Она очень хорошо заполняет пустое место. У нас на лестнице, конечно, ничего не видать, а это прекрасная картина мастерское изображение домашней птицы.
— От нее на лестнице стало еще темнее. Не знаю уж, что Сомс на это скажет. Право, Джемс, не ходил бы ты один на аукционы, покупаешь бог знает что…
— Надеюсь, я могу свои деньги тратить как мне нравится? — сказал Джемс. — Гондекутер — известное имя.
— Ох, Джемс, — сказала Эмили, — в твои годы… Ну хорошо, хорошо! Только не волнуйся. Садись, пей чай.
Джемс сел, бормоча себе под нос. Женщины! До чего несправедливы! А в ценностях разбираются не лучше кошек!
Эмили промолчала. Она никогда не теряла самообладания — обходительная и светская.
Позже пришла Уинифрид с Монтегью Дарти, так что к обеду вся семья была в сборе: Сисили с локонами по плечам, Рэчел — в высокой прическе — в этом сезоне она начала «выезжать», Сомс, только что расставшийся со своими бачками, вышедшими из моды к концу семидесятых годов, отчего он казался еще бледнее и сухощавее. Уинифрид, в которой уже замечались признаки «интересного положения» — в связи с надеждами на близкое появление маленького Дарти, — не сводила несколько настороженного взгляда с «Монти», а тот, плотный, широкоплечий, напомаженный, типичный «красавец мужчина», сидел с самодовольным выражением на смугловато-бледном лице и большой бриллиантовой запонкой в ослепительном пластроне рубашки. Она первая заговорила о Гондекутере.
— Папочка, милый, что это вам вздумалось купить такую огромную картину?
Джемс вскинул на нее глаза и пробурчал с набитым ртом:
— Огромную! Она как раз заполнила пустое место. Ему показалось в эту минуту, что у его домашних какие-то очень странные лица.
— Прекрасная картина, и размер хороший! — Реплика исходила от Дарти.
«Гм! — подумал Джемс. — Чего ему от меня нужно? Денег?»
— Очень уж желтая, — пожаловалась Рэчел.
— Ты-то что понимаешь в картинах?
— Понимаю, во всяком случае, что мне нравится, а что нет.
Джемс покосился на сына, но Сомс смотрел в тарелку.
— Это большая ценность, — отрывисто сказал Джемс. — Там перья изумительно написаны.
На том разговор кончился, так как никто не хотел обижать папочку, но наверху, в гостиной, после того как Эмили и три ее дочери, поднимаясь по лестнице, прошли вдоль всей картины, обсуждение приняло более оживленный характер.
— Нет, в самом деле!.. Уж папа всегда! Такая громадина, уродина — даже слова не подберешь, как ее назвать! И еще куры — кому интересно смотреть на кур, даже если бы их можно было разглядеть! Но ведь папа известно как рассуждает: раз выгодно, так уж, значит, и хорошо!
— Сисили, — сказала Эмили, — не будь непочтительной!
— Но это же правда, мама. Все старые Форсайты такие.
Эмили, втайне соглашаясь, все же оборвала ее:
— Тсс!
Она всегда защищала Джемса в его отсутствие. Да и остальные тоже, кроме как между собой.
— Сомс считает ее ужасной, — сказала Рэчел. — Надеюсь, он скажет об этом папе.
— Ничего подобного он не скажет, — отрезала Эмили. — Или уж ваш отец не имеет права делать что хочет в своем доме? Вы, дети, становитесь чересчур дерзки.
— Мама, да вы же сами чудно знаете, что этот Гондекутер — просто дикое старье!
— Не люблю, когда ты так говоришь, Сисили, — «чудно», «дикое»!
— Почему? В школе все так говорят.
— Это верно, мама, — вмешалась Уинифрид, — сейчас так говорят. Самые новые словечки!
Эмили примолкла. Это определение — «самое новое» — всегда ее обескураживало. Она была женщина с характером, но и ей не хотелось отставать от века.