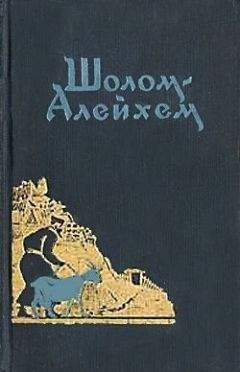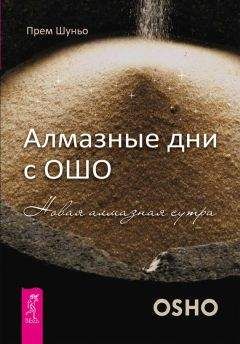Михаил Зенкевич - Мужицкий сфинкс
— Что с вами?
Но я, захлебываясь, глотаю вихревую струю черного воздуха, обтекающего стекло перед шофером, и едва могу выговорить:
— Флавихр Кузьмич... Флавихр... вихр...
XIX Женщина с подтяжками на шее
— Здесь бросали в прорубь Григория Ефимовича.
— Какого Григория Ефимовича?
— Распутина... Вон там, где светлое пятно... Видите?
Эльга показала рукой за перила туда, где гуськом переходят вброд Малую Невку, по горло в черной воде, бревенчатые сваи быков. Деревянный большой Петровский мост скрипит, как готовая сорваться с причала баржа.
— Давайте венок... Да потушите свет... Нас может увидеть милиционер из будки...
Вылупленные рачьи глаза мотора потухли. Небольшой металлический с фарфоровыми цветами венок звенит от ветра. Что они с ним будут делать? Ах, черт... В потемках я не заметил, что деревянный настил тротуара поднят на полчетверти, и, споткнувшись, упал на четвереньки.
— Осторожней... Вы так слетите в воду... Бросайте, Матвей Алексеевич!
Комаров, развернувшись, ловко, как спасательный круг утопающему, бросил венок. Эльга, перекинувшись через перила, следит, куда он упадет, но плеска в шуме воды не слышно.
С потушенными фонарями задним ходом — назад, на шоссе Петровского острова...
Тревожный протяжный гудок... Пароход... Нет, какая-то фабрика. Новая Бавария и Канатная. Все окна освещены. Неужели работают и ночью? Дорогу нам перегородили два грузовика.
— На легковом-то, пожалуй, не проедете. Там у Ждановки перед мостом вода без малого на аршин. А на Тучков и подавно нельзя...
Через Ждановку мы все же перебрались, хотя и с опасностью увязнуть и подмочить мотор. Но на Карповке около Каменноостровского, улицы Красных Зорь, машина, зашипев, встала.
— Что случилось?
— Мотор не в порядке. Придется остановиться. Здесь рядом есть ресторан-отель. Помогите мне сдвинуть машину.
Вдвоем с Комаровым мы вкатили парализованный «Ройс» во двор двухэтажного особняка с башенками на крыше и каменным крытым подъездом. У входа под стеклом золотом по черному отливает надпись — «Отель Ривьера».
— Матвей Алексеевич, вы еще долго провозитесь с мотором? Мы зайдем обогреться. Я промочила ноги и озябла.
И Эльга нажала несколько раз кнопку с надписью: «Ночной звонок к швейцару».
Вместо ливрейного отдельного швейцара двери открыл взлохмаченный заспанный коридорный в белой рубахе без пояса и в шерстяных деревенских носках.
— Все номера заняты. Остался только один за двадцать пять рублей. Угодно занять?
Расторопный позевывающий малый (на его неожиданный ночной звонок подействовал так же возбуждающе, как жужжанье запутавшейся в паутине мухи на сонного паука), мягко ступая, повел нас по устланному темно-красным половиком узкому коридору мимо запертых мертвых номеров на второй этаж.
— Что прикажете подать?
— Подайте нам кофе с ликером. Только поскорей...
— Слушаю-с.
Отведенный нам номер — большая нежилая комната с претензией на роскошь: голубая мягкая (но уже просаленная) мебель, зеркала, исчерченные камнями перстней (имена посетительниц с датами кутежей, на одном любительский неприличный рисунок), потертый, в пятнах, ковер и выцветшие, давно не выбивавшиеся портьеры на окнах и на арке в спальню.
Осторожный стук, и в дверь просовывается поднос с дымящимся на машинке кофе и бутылкой ликера — все, как в перворазрядном ресторане, но подает тот же неряха-коридорный, даже не подпоясался и не обулся. Разве в отеле нет другой, более приличной прислуги?
— Больше ничего не прикажете? Тогда позвольте получить... Не извольте обижаться. Такой у нас порядок... Посетитель теперь разный, по виду никак не узнаешь... Намедни господа офицеры напили-наели, а как подали счет, осерчали и давай шашками грозить... Сдачи не прикажете? Покорно благодарим...
Ретируясь задом, разговорчивый малый в шерстяных носках сунул мне в руку ключ и таинственно шепчет:
— Дверь извольте на ночь запереть изнутри. Сами знаете, время какое. У нас здесь полно всякого народу. Недавно один господин, с виду такой благородный, обходительный, голую женщину задушил в постели подтяжками...
Эльга разливает черный кофе в крошечные чашечки и золотой ликер в узкие рюмки.
— Вы помните своего сумрачного бога?
— Какого бога?
— Заключительное стихотворение вашей «Дикой порфиры».
— Кажется, помню, но...
— Почему я вдруг ни с того ни с сего вспомнила о нем? О, совсем не потому, чтобы оно мне нравилось. Это стихотворение слабее других, но в нем вы удивительно верно почувствовали свою судьбу как поэта и как человека. Как верен этот ваш страшный приговор самому себе — вечная неплодная жажда живого зачатья, это постоянное «но отклоняемый силою злобной», эти недовершенные красные ублюдки змеистых комет вместо совершенных полнозвучных солнц. Как в поэзии, так и в жизни, в любви, во всем, во всем!
Эльга поднялась и говорит с трагическим пафосом, как актриса выигрышный монолог. Но я плохо слушаю ее: мне почудился из-за портьеры блудливый женский смех и мягкое похлопыванье ладонью по голому телу. Неужели там, в спальне? Не может быть, наверное, через перегородку из соседнего номера...
— И эта иссушающая вас неплодная жажда живого зачатья, эта злобная всегда отклоняющая вас сила, — вы знаете, кто она?
Эльга вплотную подходит ко мне и берет своими руками обе мои (ее — холодны, как мрамор) и глядит мне гипнотизирующе в глаза. (Ее — один сплошной, черный, блестящий от атропина зрачок). Голос ее снижается до шепота, но такого пронзительного, что шипение его бежит мурашками по моему телу, шевелит портьеру и наполняет (я чувствую это) соседнюю страшную комнату.
— Это жажда, это сила — я! Я, только я одна раздваивала вашу волю, вашу любовь, вашу поэзию, убивая веру сомненьем, любовь ревностью, жизнь смертью. Я, как аэроплан-истребитель, все время парю над вами, сбрасывая в ваш мозг разрушительные атомы бомб, маячу в нем сполохами, как магнитная точка полюса, в чье мертвое ослепительное безумие упираются меридианы всех ваших помыслов и желаний! И теперь разве не я играю с вами эту страшную шутку! Но сегодня... может быть, это слабость, мне вас жалко... Может быть, если еще не поздно, я освобожу вас... Если еще не поздно... Может быть...
Эльга, как медиум после сеанса, ослабев, опускается в кресло, подбирает ноги и съеживается в белый комок, напоминая залетевшего под абажур лампы осеннего бражника, забившуюся от бури в комнатную трубу перелетную птицу.
— Меня знобит... мне холодно...
Эльгу бьет озноб, как перед приступом малярии, лицо ее обескровливается и белеет.
— Нет, я не могу больше... Я теряю сознание... Ни огонь, ни ликер меня не согревают... Капните капельку крови в рюмку... Неужели вы боитесь сделать это для меня? Вот вам булавка, уколите себе палец и выдавите капельку крови.
Эльга протягивает мне отколотую от блузки золотую булавку с рубиновой головкой. Я покорно надкалываю слегка свой мизинец на левой руке и выдавливаю гранатовую капельку крови.
Глаза Эльги, беспокойно следившие за моими движениями, загораются хищной радостью.
— Вот так... Теперь капните ее в рюмку с ликером и дайте мне. Да что вы смотрите на меня с таким ужасом, точно я вампир?
Выдавленная из тюбика мизинца капелька крови падает и растворяется в светлом ликере. Эльга дрожащей рукой берет и залпом (как больная спасительное лекарство) осушает рюмку.
— Это действует, как веронал. Укройте меня и обнимите крепче.
Я держу Эльгу, притихшую и прильнувшую ко мне доверчивой девочкой. Уткнувшись лицом в мое плечо, она задремала.
Какая тишина! Даже из окна с улицы не долетает ни одного звука.
Что за чертовщина! На малиновой портьере под аркой, как на гробовом покрывале, неподвижно лежит обнаженная по локоть женская восковая рука.
Я хочу подняться и крикнуть, но вместо крика из сдавленного горла вырывается глухонемое жалобное мычание, как у спящего, увидевшего страшный сон. Руки Эльги крепко обвивают мою шею, и губы ее, раскрытые, но неподвижные и сухие, приникают к моим. От ее поцелуя я ощущаю то же, что и в церкви: легкий холодок и потерю чувствительности в губах, точно их анестезировали ваткой, смоченной в эфире или кокаине.
Я сразу успокаиваюсь и уже без страха смотрю на восковую руку, шевелящую и размахивающую портьеру арки, откуда показывается высокая голая, такая же желто-восковая, как и ее рука, — женщина в черных ажурных чулках и лакированных туфлях на французском каблуке. Лицо ее, в резком контрасте с желтизной тела и ярко накрашенными губами, — лиловато-синего оттенка, точно завуалированное, и на шее ее висят затянутые галстуком-самовязом цветные мужские подтяжки. Женщина похотливо улыбается, поблескивая золотыми резцами, и, поманив пальцем, скрывается за портьерой...
Почему я так боюсь этой комнаты? В ней нет ничего страшного — обычная, как во всех таких отелях, спальня с катафалком и кроватью под балдахином, с розовым фонарем на потолке, с умывальными принадлежностями...