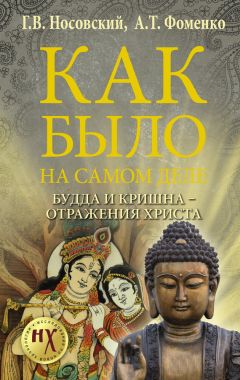Генри Миллер - Аэрокондиционированный кошмар
Мы ужинали в маленьком скромном ресторане и запивали еду «petit vin du pays»[15], удивительно приятным. Потом надо было вернуться к гостинице, взять ключ, потому что в десять часов двери запирались. Ключ, как и сама дверь, был громаден, настоящий ключ от крепости. Мы постояли перед дверью, тщательно изучая ее. Он показал мне следы ремонта, который когда-то давно сделал его отец, и большой шарнир, приделанный им самим попозже. «А теперь пойдемте. — Он подхватил меня под руку. — Я покажу вам старый Сарлат, такие улочки, о которых парижане и думать забыли». И он начал мне рассказывать о Карле Великом, о Ронсаре и Вийоне, о герцоге Бургундском и Орлеанской Деве. Он говорил о прошлом не как школяр или студент-историк, он был современником всех, о ком рассказывал, он видел все собственными глазами. «Та книга, которую вы приглядели нынче днем, — сказал он после паузы, — мы попозже вернемся за ней в магазин. Я хочу вам подарить ее на память о Сарлате. Может быть, вы ее переведете когда-нибудь…» И тут он начал рассказывать об Авиньоне и Монпелье, Ниме и Оранже, о провансальском языке, о великих женщинах Франции, о розенкрейцерах, о мистериях Нотр-Дам, о Парацельсе и Данте. «Мой дорогой друг, — сказал он, когда мы остановились в тени огромной средневековой двери, — Франция для меня единственная страна на свете. Она испытала все. И есть мелочи, в которых она велика — в отзывчивости, в терпимости, в уважении к другим. Она не жаждет господства над миром. Она скорее похожа на женщину, желающую вас очаровать. И с первого взгляда она вовсе не красавица. Но она знает, как переплести свои чувства с вашими. Она раскрывает себя не спеша, осмотрительно, держа про запас свое истинное очарование, пряча настоящие сокровища до того момента, когда их смогут оценить по справедливости. Она не бросается к вам, как это делают проститутки. Душа Франции целомудренна и чиста, как цветок. Мы люди сдержанные не из робости, а потому, что нам есть что дать. Франция — неиссякаемый кладезь сокровищ, и мы, французы, — смиренные хранители этого великого богатства. Мы не так щедры, как вы, — может быть, оттого, что все, чем владеем, досталось нам ценой великих страданий. За каждый клочок нашей земли надо было бороться снова и снова. И если мы любим нашу землю, как мало кто на свете, то это оттого, что она щедро полита кровью наших отцов и дедов. Вам наша жизнь кажется мелкой, но для нас она полна глубокого смысла и богата, особенно для нас, провинциалов. Да, с нами порой бывает скучно — пусть! Каждый из нас остается французом — вот что самое важное».
Мы повернули назад, к древним стенам города, в самое сердце и нутро Средневековья. Время от времени он брал меня за руку и вел, потому что в узких извилистых проходах была тьма кромешная. Один раз на такой тропке он нащупывал дорогу, не отрывая своей руки от стены, и, приведя меня к нужному месту, чиркнул спичкой и попросил потереть рукой деревянную панель какого-то гигантского портала. Зажигая спичку за спичкой, мы исследовали всю эту дверь, и после такой процедуры я запомнил ее на всю жизнь. Дверь дверей! А потом снова тьма, смоляная чернота, и в ней слышались звуки веселья, там, внизу, где праздник невинных душ был в полном разгаре.
Глаза мои были на мокром месте. Прошлое ожило. Оно жило в каждом фасаде, в каждом портале, в тех самых камнях, по которым ступали наши ноги. Детишки в белом были тоже из прошлого. Я нашупал его рукав:
«Скажите, — спросил я. — Вы помните "Большого Мольна"?»
«Бал?» — Он сжал мою руку.
«Ну да, бал. Детей!»
И больше ни слова. Оба мы погрузились в глубокое молчание. Пришедшая на память книга говорила за нас в тишине средневековой улочки, и она просила нас не прерывать видение и не мешать детям играть в их игры.
Пока мы спускались по широким ступеням к парапету и потом шли вниз по подковообразной лестнице, я ничего не видел, кроме мельтешащих огоньков, скачущих через перила, прыгающих с подоконников. Вся площадь была заполнена этими пляшущими огнями, и в их отсветах лица гуляк качало, кидало из стороны в сторону, как в театре теней. И снова слезы навернулись мне на глаза. Это было так изящно и так не похоже на американскую манеру веселиться. А к тому же еще этот фон — угрюмый, тяжелый, почти зловещий. Почему — то это напомнило мне о геральдической лилии на тяжелом гербовом щите странствующего рыцаря — о том контрасте между сердцем и кулаком, о последнем мгновении в старинном поединке, когда смертельный удар становился актом милосердия и избавления. Это напомнило мне также об эпидемиях чумы и праздниках, устраиваемых среди отблесков погребальных факелов. Напомнило о той манере, с какой мой мясник с улицы Томб-Иссуар обращался с мясом, изящество и даже нежность его манипуляций с ножом, почти материнское чувство, с каким он выносил четверть телятины и укладывал товар на мраморный прилавок. Да, Франция снова ожила перед моими глазами, Франция давних времен, Франция вчерашнего дня и Франция завтрашняя. Прекрасная, славная Франция! Видит Бог, с какой любовью и уважением вспоминаю я о тебе сейчас. О моем последнем, наверное, взгляде на тебя. Каким счастливчиком я был! Сегодня ты повержена, лежишь под сапогом победителя. С трудом я могу поверить в это. Кажется, только сейчас, в этот момент, снова переживая ту, полную очарования ночь, осознаю я всю чудовищность сразившего тебя злодеяния. Но даже если все разрушено, если все значительные города сровняли с землей, Франция, о которой я говорю, будет жить. И если великий факел духа погаснет, то те маленькие огоньки неугасимы, они пробьются сквозь землю тонкими язычками пламени, и родится другая Франция, и новый праздничный день будет отмечен в ее календаре. Нет, то, что я увидел, не может быть раздавлено сапогом завоевателя. Говорить, что Франции больше нет, значит клеветать на человеческий разум. Франция жива. Vive la France!
Дух Анестезии
«Власть, правосудье, история — прочь!»
Артюр РембоЯ буду называть его Бад Клаузен, потому что это не настоящее его имя. Также не хочу говорить, где я встретился с ним, потому что не хочу ему ничем навредить. Он уж и так под завязку натерпелся от наших, отмеченных садистским комплексом блюстителей порядка. И чего бы он ни натворил в этой жизни или в следующей, я всегда смогу найти для него оправдания.
Я совсем не хочу делать из него героя. Я хочу написать его правдивый портрет.
В ту пору мы с Раттнером еще не разъехались. Мы проделали долгий путь в поезде. Уже оплатили визит в знаменитое исправительное учреждение, названия которого я предпочитаю не упоминать. Начальник тюрьмы продемонстрировал нам всю возможную для него вежливость. Но есть одна деталь, врезавшаяся в мою память, отличная интродукция к истории Бада Клаузена.
Чтобы проникнуть за ворота этого прославленного учреждения, вам не избежать встречи с караульным, нависающим над вами с какого-то подобия эстрады. Вам придется пройти через допрос с пристрастием, прежде чем он просигналит, что путь свободен. В руках у него карабин, на поясе кобура с револьвером и, вероятно, парочка гранат в кармане брюк. До зубов вооружен. А за плечами у него Закон, закон, говорящий, что сначала надо стрелять, а уж потом спрашивать. Он тщательно осмотрел меня, по той причине, что в телефонном разговоре с начальником я забыл сказать, что со мною будет мой друг Раттнер. Стражу трудно было понять, как можно забыть такую важную мелочь.
Здесь не место жаловаться на строгость тюремного режима. Я понимаю, что они должны соблюдать сугубую осторожность. Все, что я хочу, — это передать то впечатление, какое этот тип произвел на меня. Немало времени прошло с того инцидента, а я все еще не могу забыть его лица, его манер, всего облика. Вот уж кого, говорю это в полном уме и здравии, я совершенно хладнокровно убил бы. Я бы пристрелил его где-нибудь в темном углу и спокойно пошел бы заниматься своими делами. Словно мошку прихлопнул, севшую мне на руку.
Он был убийцей, существом, выслеживающим человечью дичь и получающим за это деньги. Он был поганью, его нельзя было причислить ни к какому сорту людей, даже к тем бедолагам за решетками. До конца дней своих буду я помнить это жестокое, пепельно-серое лицо, эти ледяные сверлящие глаза, взгляд охотника на человеков. Ненавижу его и все, что он символизирует. Ненавижу неугасимой ненавистью. Я в тысячу раз охотнее стал бы неисправимым каторжником, чем этим наймитом тех, кто силится поддерживать закон и порядок. Закон и порядок! Когда под конец вы увидите, как этот тип вглядывается в вас сквозь винтовочный прицел, то поймете, что они означают, закон и порядок. Если обществу надо защищать себя при помощи таких человекообразных монстров, пропади оно пропадом, это общество! Если в основе закона и порядка есть только человек, вооруженный до зубов, человек без сердца и разума, тогда закон и порядок лишены всякого смысла.