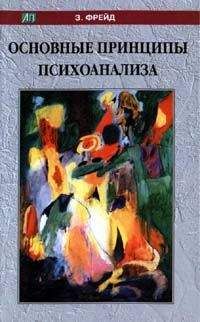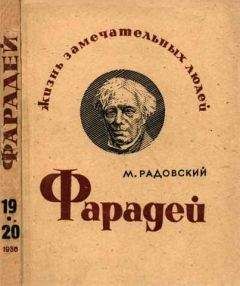Моисей Кульбак - Зелменяне
Тяжеловесные трубы оркестров гремели где-то на далеких улицах. Уже промаршировали к вокзалу приземистые металлисты, хмурые широкоплечие кожевники, веселые портные. Теперь шли смешанные союзы. Из боковой улицы вырвался с пением рабфак; чуприны торчали из-под шапок, красные косынки колыхались, как иллюминационные огоньки.
Молодежь! Молодежь! Молодежь!
Фалк дяди Ичи широко шагал в середине колонны и на ходу поглядывал в книжку. Он ведь беспрерывно учился!
Сияли медные каски пожарников.
Потом вышли бородатые кустари, с длинными лицами, с покатыми плечами. Впереди тащился их старый, подержанный оркестр с заплатанным барабаном, с огромной нечищеной трубой, которая глухо ворчала на весь свет.
Дядя Ича (ишь какой! ишь какой!) шел тут же за оркестром, высоко подняв голову, с вазоном под мышкой. Это подарок для Красной армии. Теперь он действительно был похож на Беру.
Не спеша шли кустари, степенно поднимали ноги, как они поднимают свои молотки в мастерских, поговаривали о политике и наслаждались жизнью. Поодаль шел одинокий дядя Зиша, нахмуренный, выкидывая вперед свою солидную палку. Он останавливался и расстегивал ворот фуфайки, чтобы легче было дышать. Бедняга не привык шагать в ногу с пролетариатом.
Где-то далеко, в первых рядах демонстрации, вдруг послышалось широкое, глухое «ура», как будто гора обвалилась.
Стало тихо. Кустари расступились, чтобы пропустить приближающихся красных конников.
Такую тишину дядя Зиша слышал только в Судный день, во время вечерней молитвы Нейла.
Вдруг заплатанный барабан как-то кашлянул изо всех сил, издали зацокали копыта лошадей, на улице все смешалось: красные полотнища, медные трубы, блестящие глаза, смех… Волна подняла все это и стремительно понесла к центру города.
Такой бури голосов дядя Зиша никогда не слыхал. Его подхватила людская волна, он тоже стал что-то кричать и на мгновение вообразил, что и он большевик — он шел под знаменем! Его это пугало и в то же время радовало, покуда он, ошеломленный, не выбрался на тротуар. Оправив свою разметавшуюся бороду, он, смущенный, свернул в боковой переулок.
Там дядя Зиша осмотрелся, не заметили ли солидные люди его позора. Потом он пошел ссутулившись по серому безлюдному переулку, опираясь на свою массивную палку.
Да, дядя Зиша за последнее время сильно состарился.
Зато хвала второму дяде, дяде Иче, который в ответственную минуту не растерялся. Со всеми вместе он восторженно пел русские песни. Больше того: он махал руками в такт и даже учил других, менее способных кустарей петь революционные песни с канторским нажимом. Дядя Ича вошел в раж. Он создавал вокруг себя порядок, он был пульсом демонстрации.
Потом, когда первое вдохновение прошло, он с вазоном над головой протиснулся к едущему верхом, смеющемуся командиру и торжественно вручил ему этот подарок от имени всех кустарей-одиночек.
— Да здравствует советская власть!
Дядя Ича был взбудоражен.
Командир спрыгнул с лошади, сорвал один цветок из вазона и стал второпях искать на лацкане у дяди Ичи подходящее для него место. Тогда у дяди чуть не брызнули слезы из глаз, он выпрямился, как солдат, и произнес дрогнувшим голосом:
— Мой сын Берка тоже большевик!
Командир похлопал его по плечу, вскочил на коня и издали все еще махал ему рукой — приветствовал представителя всех кустарей-одиночек от имени дивизии, которая пронеслась на взмыленных конях, в запахах степи, румяного хлеба и теплых деревенских хат.
* * *День кончился. Демонстрация стала разрываться на части и распадаться изнутри. В колоннах образовались пробелы. Слышались единичные будничные голоса. Люди поднимали воротники и спешили домой.
Весь вечер дядя Ича, вспотевший, без пиджака, сидел за столом, лил в себя стаканами чаек и все хвастал перед тетей Малкеле своей находчивостью: как он уберег народ от разных несчастий, как он понравился одному командиру и как тот не хотел расстаться с ним. Потом дядя Ича заодно объяснил ей, как стреляют из пулеметов, из пушек, как ведут морские бои, как нужно обходиться с танками, — покуда не залез поздно ночью, все разговаривая и рассказывая, к тете Малкеле в кровать.
Тетя Малкеле осталась при своем прежнем мнении, что он не ахти какой вояка, хотя и считала, что он еще по сей день, так сказать, мужчина в силе, — но и только.
Сорванцы
Молодежь — сорванцы — любит вышитые рубашки и чуприны. Молодежь — сорванцы — любит носить револьвер просто в заднем кармане. Она любит стоя уплетать колбасу с хлебом, запихивая ее за обе щеки и подшучивая при этом.
Над кем?
Над Довнар-Глембоцким, стареньким профессором, который то и дело твердит на лекциях:
— Ох, ребята, ребята, я марксист еще с Первого съезда…
Боровка говорит:
— Довнар-Глембоцкий пишет книги с торопливостью пожарника.
— Правильно!
— И поэтому у него нет времени для таких пустяков, как овладение научным методом.
— Ну да, революция ему помешала, а то бы он стал попечителем учебного округа…
— Боровка, ты сдал топографию? — спрашивает близорукая Нюта.
— Сдал, сдал.
— «Народная воля» Глембоцкого, — говорит Тонька, — это попытка оправдать кадетов под видом «исторического исследования».
— Сходи лучше, Тонька, за тарелкой капусты к маме, — говорит Яшка рыжий, — это будет нам вместо компота.
Молодежь, видно, любит кислую капусту.
* * *Уже девять часов вечера. Она, молодежь, любит в это время усаживаться ввосьмером у дяди Зиши на кушетке и, сплетясь руками, покатываться со смеху.
— Прими свои кожаные изделия, сын лавочника!
— Кулацкий рецидив, тебе мала площадь посева?
— Молчи, дурень!
Близорукая Нюта просит, чтобы ее отпустили, у нее слабое сердце. Кто ж не пойдет навстречу Нюте? Всегда ей идут навстречу. Даже во время тревоги ей тоже идут навстречу. Боровка носит за нее винтовку и вытаскивает Нюту из грязи, которую та всегда ухитряется выискать.
Нюта добрая, она нужна в вузе. Она усаживается с иголкой в руках, парень подает ей полу куртки, и Нюта пришивает ему пуговицы.
О, никто так не теряет пуговицы, как молодежь!
У нее из всех карманов что-нибудь торчит — педология Блонского, английский словарь Миллера.
Она, молодежь, сидит в обнимку и зубрит.
* * *Дяди Зиши нет дома, он в последнее время очень занят своим горем. Люди взялись ему помочь, главным образом, какой-то родственник со стороны тети Гиты, торговец мукой, и, как говорят, дело уже идет на лад. Соня и ее муж собираются разводиться. Дядя Зиша теперь часто прогуливается с этим лавочником где-то по тихим переулкам. Вдруг они останавливаются друг против друга, живот к животу, кусают ногти, поглаживают себе бороды и еще и еще раз пытаются обмозговать это дело.
Ходят слухи, что зять уже согласился вернуть Соню ее отцу, но просит немного денег. Другим хочется понимать наоборот: что Ольшевский порядочный человек, что он отдает ее бесплатно, но вся загвоздка теперь в дяде, который требует возмещения за свои переживания, а именно — он хочет пару сотен.
Но в реб-зелменовском дворе никто об этом не знает, тетя Гита тем более. Она сидит целыми днями одна в доме и справляет свой обряд молчания у посеревших осенних окон.
* * *Сегодня Тонька сдала последний зачет в вузе. Она на днях получает направление на работу, кажется чуть ли не во Владивосток, и вот они сидят у дяди Зиши на старой кушетке ввосьмером. Молодежь ей завидует.
В доме дяди Зиши сумерки. Электричества не зажигают. Зачем? Сейчас всем хочется сказать Тоньке несколько теплых, душевных слов на дорогу.
— Я тебе, Тонька, еще раз говорю, что у Степанова качество является субъективной категорией.
— Субъективный идеализм, при котором материя объективна?
— А если Деборин признает объективность абстрактного, так это лучше?
— Проклятый метафизик! Ведь говорят тебе, что абстрактное нельзя изолировать от конкретного…
* * *Тетя Гита входит высокая и тихая, как тень. Ей нужно передать Тоньке, что Цалел дяди Юды ждет ее уже довольно долго в другой комнате, — может быть, она наконец выйдет к нему?
Тонька соскакивает с кушетки.
С этим Цалкой плохо и так и этак; он стоит посреди комнаты с поднятым воротником и курит самокрутку.
— Ты занята? — спрашивает он Тоньку.
— А что?
— Ты спешишь?
— А что?
Дело в том, что у Цалела созрел план. Теперь, после того как Тонька окончила вуз, они оба поедут в Одессу. Он там снимет комнату у моря, виллу, — так все делают. Они будут сидеть себе на балконе и заниматься каждый своим делом. Вечером варить черный кофе, читать молодую поэзию, проводить время. Ну?