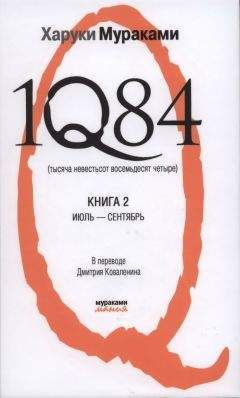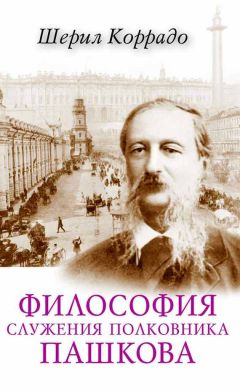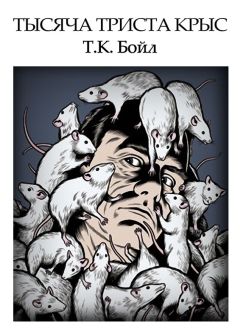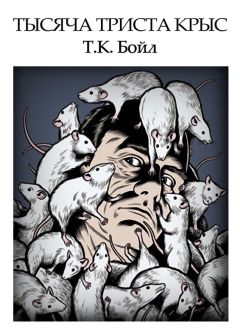Токутоми Рока - Куросиво
Осенью в дворцовом парке Фукиагэ состоялся августейший праздник хризантем: была приглашена вся аристократия столицы, присутствовали и обе императрицы в сопровождении многочисленных фрейлин. И среди них, как белая хризантема среди простых полевых цветов, выделялась юная, прекрасная Садако в своем белом парчовом кимоно, алых хакама, с длинными распущенными за спиной волосами. И на нее обратил внимание овдовевший в тот год и все еще не женатый граф Китагава. Вскоре последовало формальное предложение.
Родня графа, бывшие вассалы и приближенные, пытались возражать против этого брака. Невеста была хотя и аристократка, но не из числа наиболее близких двору семейств и, что в особенности плохо, бедная, попросту сказать – нищая. А между тем ведь, и кроме нее, кругом имелось сколько угодно выгодных партий.
В семействе Умэдзу мать тоже испытывала сомнения. Конечно, род Китагава принадлежал к наиболее именитым из бывшей военной знати, старая госпожа, по слухам, была женщина добрая, ласковая… Правда, жених вступал в брак вторично, но от первого брака детей у него не имелось… Была некоторая разница в возрасте – дочери исполнилось семнадцать, жениху – тридцать, но это не могло служить препятствием, ибо тринадцать лет в таком деле – это действительно пустяки… С другой стороны, смущало, что жених был богач, каких насчитывалось немного даже среди аристократии и даймё, а семья Умэдзу едва влачила жалкое существование… Матери было бы обидно, если бы пошли толки, что они позарились на богатство… Она боялась, как бы и сама Садако в будущем чего доброго не почувствовала себя приниженной из-за этого… Мать медлила с ответом, однако в конце концов вынуждена была согласиться: господин – а ведь он был уже далеко не мальчик, и к тому же вступал в брак уже не впервые – влюбился так безумно, что, неровен час, мог бы и занемочь от любви…
Сговор состоялся, высочайшее разрешение было получено. Заботу о приданом избранной по любви супруги целиком и полностью взял на себя жених, супруга же принесла в дом только собственную свою красоту да изящество, унаследованные от длинной вереницы предков. Единственное имущество ее составляла черная лакированная шкатулка с инкрустированными перламутром цветами сливы, перевязанная красными, выцветшими от времени шнурками; в шкатулке хранился список «Карасумару-дзё»,[114] написанный рукой покойного отца, кинжал в черных ножнах работы Иосимицу Авадагути – фамильная драгоценность матери, и старая накидка, некогда парадное одеяние матери, вышитая узором в виде сосны, бамбука и сливы.
Итак, брак благополучно совершился. Сама императрица-мать прислала подарки, и хотя никто не мог бы предсказать, что встретится завтра на пути корабля, но сегодня на море царили тишина и покой.
Стояла весна тысяча восемьсот семьдесят шестого года – восемнадцатая весна Садако, когда, такая чистая в белоснежных одеждах, она вышла к гостям после совершения брачной церемонии.
В том же году в конце лета внезапно умерла мать Садако. Выдав дочь замуж, устроив, таким образом, и судьбу сына Мотофуса – ведь теперь было кому о нем позаботиться, – она как будто сразу ослабела после долгих лет забот и напряжения. В ноябре родилась Митико. Жизнь стремительно неслась вперед, незаметно пролетали дни и месяцы, горести и радости сменялись, точно в калейдоскопе. Вчера невеста – сегодня она уже супруга, мать… На грудь, к которой приникла Митико, падала невольная слеза скорби – «вот и я точно так же лежала когда-то у родимой груди…» – и Митико заливалась громким плачем. И не успевала молодая мать подхватить ее на руки со словами: «Не плачь, моя маленькая, не плачь, моя хорошая!», как нужно было прятать слезы от входившей в комнату служанки, предлагавшей «Извольте переодеться, госпожа!» И вот она уже, в парадной прическе, в украшенном гербами кимоно, тихими шагами выходит в большую библиотеку и, сидя рядом с мужем, выслушивает новогодние поздравления бывших вассалов клана. В первый год она испытывала во время этой церемонии неловкость; на следующий год – привыкла, потом и вовсе перестала смущаться. Годы шли чередой, цвела весна, на смену ей приходила зима; вот Митико исполнилось двенадцать лет – «как раз столько, сколько было мне самой, когда мать впервые начала учить меня читать Окагами…»[115] А ей самой уже тридцать…
В золоченых покоях госпожа Китагава оплакивала свою горестную судьбу.
6
Кто родился в доме даймё, кто с детства не имел ни малейшего представления о каких-либо материальных невзгодах, чье малейшее желание, малейший каприз с самого младенчества исполнялись мгновенно, тот не способен понимать переживания людей и их близких, не умеет обуздывать себя, и, даже если от природы он не так уж порочен, все равно, при случае, он с легким сердцем идет на жестокость. Недаром считается, что урод и красавец – смежные понятия, ограниченность и широта воззрений часто, как соседи, уживаются рядом, а величие и высокомерие недалеко ушли друг от друга; не зря же люди еще в старину говорили, что «от барской власти жди напасти».
Муж госпожи Китагава граф Иосимити не был уродом, не был он и настолько глуп, чтобы его сочли дураком. Молодому графу жилось легко; жив был отец – старый господин, глава семьи Китагава, среди вассалов тоже имелось немало способных людей, клан был легитимистский, так что и от эпохи молодой граф не слишком отстал, а после реставрации Мэйдзи очень скоро поехал путешествовать по Европе – отчасти просто из любопытства. За три года, проведенные за границей, он успел научиться стрелять в цель, играть на биллиарде и в карты, разбираться в марках шампанского да посещать злачные места – вот, пожалуй, и все, что он усвоил за время своего пребывания в Европе. Но он обладал недурной внешностью, умел, само собой разумеется, немного изъясняться на иностранных языках, держался просто, приветливо. В отличие от многих других представителей аристократии и бывших даймё он был недурным собеседником – с ним можно было поговорить на разные темы. Все это привело к тому, что вскоре после возвращения на родину, графа пригласили в Государственный совет[116] и назначили по ведомству иностранных дел. Однако, испробованный в настоящей схватке, граф, против ожидания, оказался чрезвычайно слабым борцом и, спустя непродолжительное время, был переведен на весьма малообременительную должность камергера при одном из дворцов.
Тем временем старый господин, его отец, скончался, наследство – поскольку среди вассалов, по счастью, не оказалось воров – досталось молодому графу более чем достаточное. К тому же судьба судила ему родиться мужчиной, и он был молод. И вот, рассудив, что не стоит быть богатым, если не умеешь тратить, он погрузил руку в ящик с деньгами, добытыми крестьянским потом за долгие века, и постепенно стал всё усердней охотиться за любовными приключениями. В первые год-два после женитьбы на Садако – женитьбы по любви – граф несколько утихомирился, но это была лишь временная передышка. Как только Митико, улыбаясь, начала ковылять ножками, делая свои первые шаги, все пошло по-старому. Граф заводил содержанок, кутил с гейшами, поговаривали даже, будто его экипаж видели в квартале Ёсивара.[117] Но Садако была убеждена, что трижды покоряться и семь раз уступать – первый долг женщины; это убеждение она унаследовала вместе с кровью своих прабабок, ей внушали его с того момента, когда она стала понимать окружающее. Она была уверена, что ревность – ядовитая змея, приводящая к гибели, что покорность – лучшее украшение женщины, что нужно все сносить, все терпеть, и при этом терпеть с приветливым видом и с улыбкой на устах, и что даже если муж по ночам оставляет жену одну, отправляясь к гейше или к артистке, добродетельная женщина не должна допустить, чтобы грязные связи на стороне замутили спокойствие ее домашнего очага; по рукам и по ногам связанная неписаным законом, гласящим, что ни теперь, ни в прежние времена, – кого ни возьми – знатных ли, простых, – никогда не бывало, чтобы мужчина оставался верен одной жене и что те, кого называют мудрыми героинями древности, всегда терпеливо, молча сносили неверность мужа, не позволяя себе ревновать, – Садако понимала иероглиф, которым пишется ее имя «Сада»[118] в старинном значении этого слова, и словно ядовитого гада старалась задушить, подавить чувство горечи, против воли терзавшее ее сердце, глушила пламя понятной в ее положении обиды, снова и снова мысленно проверяла себя – не допустила ли она какой-нибудь ошибки, какого-нибудь промаха в поведении, ни разу ни единым словом не ответила на сплетни, которые передавала ей горничная, и, пряча слезы обиды, всегда весело, приветливо встречала мужа; и пьяный муж, возвращаясь домой после попойки, насмешливо смотрел ей в лицо осовелыми от вина глазами, а нередко даже открыто и грубо выражал ей свое неудовольствие.