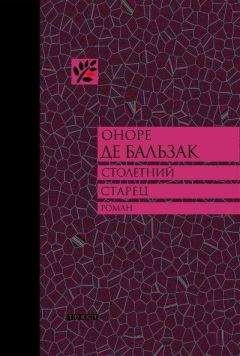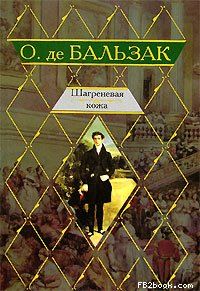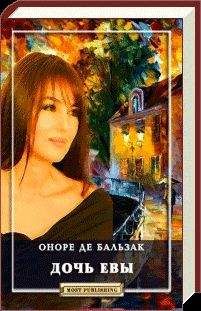Оноре Бальзак - Модеста Миньон
— Я начинаю думать, — сказал Лабриер, улыбаясь, — что слава таит в себе нечто ядовитое, как иные ослепительно яркие цветы.
— К тому же, друг мой, — продолжал Каналис, — у всех этих женщин, даже если они вполне искренни, имеется идеал, которому мы редко соответствуем. Они не представляют себе, что поэт может быть тщеславен, — а в этом обвиняют и меня, — они не понимают того лихорадочного возбуждения, которое делает его раздражительным, изменчивым; они желают, чтобы поэт был всегда одинаково велик, одинаково прекрасен. Они не думают о том, что талант — это болезнь, что Натан живет с Флориной, что д'Артез слишком тучен, а Жозеф Бридо чересчур тощ, что Беранже принужден ходить пешком и что у божества может быть насморк. Ведь поэт и в то же время красавец, как, например, Люсьен де Рюбампре, — величайшая редкость. К чему же тогда выслушивать язвительные комплименты разочарованной дамы и ловить ее недоуменные взгляды, от которых леденеет кровь?
— Значит, истинный поэт, — сказал Лабриер, — должен оставаться невидимым, как бог, среди созданных им миров и проявлять себя только в своих творениях.
— О, тогда слава обходилась бы слишком дорого, — ответил Каналис. — В жизни есть свои хорошие стороны. Видишь ли, — продолжал он, беря чашку чая, — если знатная и красивая женщина любит поэта, она не прячется ни в ложах верхнего яруса, ни бенуара, как герцогиня, влюбленная в актера; она чувствует свою силу, знает, что красота, богатство, имя служат ей надежной защитой, и говорит, как это принято в эпических поэмах: «Я нимфа Калипсо, возлюбленная Телемака». К мистификации прибегают только мелкие души. Я уже давно не отвечаю на письма замаскированных дам.
— О, как я полюбил бы женщину, которая сама пришла бы ко мне! — взволнованно воскликнул Лабриер. — А на твои слова, дорогой Каналис, можно возразить, что бедная, обделенная судьбой девушка никогда не осмелится поднять взор на знаменитость, она слишком недоверчива, слишком самолюбива, слишком робка для этого. Так может поступить только звезда или...
— Или принцесса, не правда ли? — воскликнул Каналис, громко рассмеявшись. — Принцесса, которая снизойдет до поэта! Милый друг, такое чудо случается раз в столетие. Такая любовь похожа на цветок, расцветающий только через сто лет. Принцессы крови, молодые, красивые, богатые, слишком заняты, они защищены, как и все редкостные цветы, целым частоколом хорошо воспитанных дворян, дураков и пустозвонов. Моя мечта, увы! Моя мечта, которую я лелеял еще в Коррезе, которую с таким пылом расцвечивал ярчайшими узорами фантазии... Но не будем об этом вспоминать. Мечта моя разбилась вдребезги, как хрусталь, ее осколки и поныне валяются у моих ног... Нет, нет, писать анонимные письма — значит попрошайничать. И какая требовательность! Попробуй-ка, ответь этой особе, предположив, что она молода и красива, и ты сам увидишь. У тебя ни на что другое не хватит времени. Благоразумие не позволяет нам любить всех женщин. Аполлону, по крайней мере Бельведерскому Аполлону, должно вести себя как чахоточному красавцу, то есть беречь свои силы.
— Но если девушка решается на подобный шаг, — сказал Эрнест, — оправданием ей служит уверенность в том, что она может затмить красотой и вытеснить нежностью самую обожаемую любовницу, и тогда известное любопытство...
— Да полно, — заметил Каналис, — разреши мне, мой чересчур наивный друг, ограничиться привязанностью прекрасной герцогини, которая составляет мое счастье.
— Ты прав, даже слишком прав, — сказал Эрнест.
Все же молодой секретарь прочел письмо Модесты и перечел его, стараясь разгадать скрытый в нем смысл.
— Послушай, в этом письме нет никакой фальши, тебя не называют гением и обращаются только к твоему сердцу, — сказал он Каналису, — я не устоял бы перед этой благоухающей скромностью и принял бы договор.
— Ну, что же, скрепи его, — отвечай, доведи приключение до конца. Ну, и советы я тебе даю! — воскликнул Каналис, улыбаясь. — А через три месяца ты сам увидишь, что я прав, если только это продлится три месяца...
Четыре дня спустя Модеста получила следующее письмо, написанное на превосходной бумаге, вложенное в плотный конверт и запечатанное сургучной печатью с гербом Каналиса.
II«Мадемуазель О. д'Ест-М.
Сударыня, восхищение прекрасными творениями, — допустим, что мои творения именно таковы, — имеет в себе нечто святое и искреннее, что ограждает от насмешек и оправдывает перед лицом любого суда ваше письмо ко мне. Прежде всего разрешите поблагодарить вас за то удовольствие, которое всегда доставляет автору высокая оценка его творчества, даже если она совершенно незаслуженна; ведь и рифмоплет и поэт — оба в глубине души считают себя достойными такой оценки, ибо самолюбие — субстанция, неспособная сопротивляться действию похвал. А разве не явится лучшим доказательством дружбы, которое я могу предложить незнакомке в обмен на бальзам ее утешения, способный излечить ядовитые уколы критики, — желание поделиться с нею жатвой моей опытности, рискуя даже развеять ее прекрасные иллюзии?
Сударыня, ореол святой, чистой и безупречной жизни есть лучшее украшение молодой девушки. Если вы одиноки, тогда не о чем больше говорить. Но если у вас есть семья, отец или мать, подумайте только, какое горе может причинить им письмо, которое вы написали человеку, совершенно вам незнакомому. Не все писатели — ангелы, и у них есть недостатки. Среди них попадаются люди легкомысленные, ветрогоны, фаты, честолюбцы, распутники; и какое бы уважение ни внушала невинность, как бы рыцарски благороден ни был французский поэт, вы рискуете встретить в Париже немало развращенных менестрелей, готовых внушить вам любовь лишь для того, чтобы обмануть ее. В этом случае ваше письмо было бы истолковано иначе, чем истолковал его я. При желании в нем можно было бы усмотреть намерение, о котором вы, в своей невинности, даже не подозреваете. Сколько писателей — столько и характеров. Я чрезвычайно польщен тем, что вы сочли меня способным понять вас. А что, если бы вы напали на талантливого лицемера, на насмешника, чьи книги полны меланхолии, а жизнь — беспрерывный карнавал? А что, если бы ваша столь возвышенная неосторожность свела вас с дурным человеком, с каким-нибудь завсегдатаем кулис или героем парижских кабачков? Вы размышляете о поэзии, сидя под благоухающим сводом цветущей жимолости, и до вас не доходит запах сигар, который, к сожалению, лишает поэтичности наши стихи. Ведь отправляясь на бал в уборе из сверкающих творений ювелирного искусства, вы не думаете о натруженных пальцах, о рабочих в блузах, о грязных мастерских, откуда выходят эти лучезарные цветы труда. Продолжаю. Разве может мечтательная и одинокая жизнь, которую вы, очевидно, ведете там, на берегу моря, заинтересовать поэта, чье назначение все угадывать и все изображать? Наши девушки, девушки, созданные нашим воображением, так совершенны, что лучшая из дочерей Евы не может соперничать с ними. Какая действительность может сравниться с мечтой? Скажите сами, что приобретете вы, юная девушка, участь которой — стать рассудительной матерью семейства, что приобретете вы, соприкоснувшись с ужасающими треволнениями жизни поэта в той страшной столице, которую можно обрисовать так: ад мучительный, но любимый. Если вы взяли в руки перо лишь для того, чтобы внести разнообразие в свою жизнь, в жизнь молодой и любознательной девицы, не есть ли это проявление испорченности? И как понять смысл вашего письма? Уж не принадлежите ли вы к касте отверженных, уж не ищете ли вы друга вдали от дома? Или, быть может, природа отказала вам в красоте, и вашей прекрасной душе недостает утешителя? Увы, я прихожу к печальному выводу: ваш поступок слишком смел или недостаточно смел. Остановимся на этом. Если же вы хотите продолжать переписку, сообщите мне о себе больше, чем я узнал из вашего письма. Но, сударыня, если вы молоды, красивы, если у вас есть семья, если вы чувствуете в сердце божественный дар сострадания, которое вам хочется на кого-нибудь излить, подобно Магдалине, умастившей мирром ноги Иисуса Христа, пусть вас оценит человек достойный, и будьте тем, чем должна стать всякая хорошая девушка: превосходной женой и добродетельной матерью. Одержать победу над поэтом — поверьте, участь незавидная для юной девы. Он слишком тщеславен, в его характере слишком много острых углов, на которые неизбежно натолкнется законная гордость женщины; они будут ранить ее чувство, ее нежность, еще не искушенную жизненным опытом. Жена поэта должна полюбить его задолго до замужества, она должна вооружиться милосердием и снисходительностью ангела и всеми добродетелями матери. А качества эти, сударыня, находятся у девушек лишь в зачатке.
Выслушайте же всю правду до конца, — разве не обязан я высказать ее вам в ответ на вашу опьяняющую лесть? Если брак со знаменитостью и может польстить тщеславию женщины, то скоро она заметит, что ее великий человек похож на всех прочих, и чем больше от него ожидают чудес, тем менее он способен оправдать возлагаемые на него надежды. И тогда с прославленным поэтом случается то же, что с женщиной, красоту которой чересчур расхвалили: «А я-то думал, что она куда лучше», — скажет мужчина, увидев ее в первый раз. Ее облик не соответствует более портрету, начертанному фантазией, этой волшебницей, которой я обязан вашим письмом. Наконец творческие способности могут развиваться и расцветать лишь в сфере, недоступной глазу. Жена поэта будет испытывать одни только неудобства и огорчения, видя, как изготовляют при ней драгоценности, которыми она так и не украсит себя. Если блеск славы ослепил вас, то знайте, что наслаждение ею быстро приедается. И как не раздражаться, встречая столько препятствий на пути, казавшемся поначалу столь гладким, и ощутив лед на вершине, которая издали сверкает столь ослепительно. Затем, так как женщинам не приходится сталкиваться с житейскими трудностями, они очень скоро перестают ценить то, чем прежде восхищались, — стоит им только вообразить, будто они уже разгадали назначение этих сокровищ.