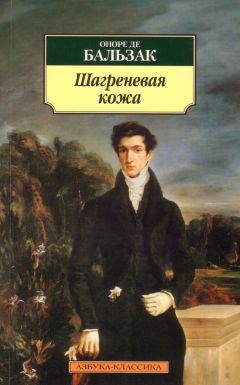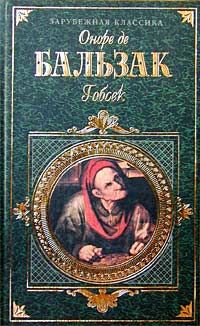Оноре Бальзак - Шагреневая кожа
Лучше умереть от наслаждения, чем от болезни. Я не испытываю ни жажды вечности, ни особого уважения к человеческому роду, — стоит только посмотреть, что из него сделал бог! Дайте мне миллионы, я их растранжирю, ни сантима не отложу на будущий год. Жить, чтобы нравиться и царить, — вот решение, подсказываемое мне каждым биением моего сердца. Общество меня одобряет, — разве оно не поставляет все в угоду моему мотовству? Зачем господь бог каждое утро дает мне доход с того, что я расходую вечером? Зачем вы строите для нас больницы? Не для того ведь бог поставил нас между добром и злом, чтобы выбирать то, что причиняет нам боль или наводит тоску, — значит, глупо было бы с моей стороны не позабавиться.
— А другие? — спросил Эмиль.
— Другие? Ну, это их дело! По-моему, лучше смеяться над их горестями, чем плакать над своими собственными. Пусть попробует мужчина причинить мне малейшую муку!
— Верно, ты много выстрадала, если у тебя такие мысли! — воскликнул Рафаэль.
— Меня покинули из-за наследства, вот что! — сказала Евфрасия, приняв позу, подчеркивающую всю соблазнительность ее тела. — А между тем я день и ночь работала, чтобы прокормить моего любовника! Не обманут меня больше ни улыбкой, ни обещаниями, я хочу, чтоб жизнь моя была сплошным праздником.
— Но разве счастье не в нас самих? — вскричал Рафаэль.
— А что же, по-вашему, — подхватила Акилина, — видеть, как тобой восхищаются, как тебе льстят, торжествовать над всеми женщинами, даже самыми добродетельными, затмевая их своей красотою, богатством, — это все пустяки?
К тому же за один день мы переживаем больше, нежели честная мещанка за десять лет. В этом все дело.
— Разве не отвратительна женщина, лишенная добродетели? — обратился Эмиль к Рафаэлю.
Евфрасия бросила на них взор ехидны и ответила с неподражаемой иронией:
— Добродетель! Предоставим ее уродам и горбуньям. Что им, бедняжкам, без нее делать?
— Замолчи! — вскричал Эмиль. — Не говори о том, чего ты не знаешь!
— Что? Это я-то не знаю? — возразила Евфрасия. — Отдаваться всю жизнь ненавистному существу, воспитывать детей, которые вас бросят, говорить им «спасибо», когда они ранят вас в сердце, — вот добродетели, которые вы предписываете женщине; и вдобавок, чтобы вознаградить ее за самоотречение, вы налагаете на нее бремя страданий, стараясь ее обольстить; если она устоит, вы ее скомпрометируете. Веселая жизнь! Лучше уж не терять своей свободы, любить тех, кто нравится, и умереть молодой.
— А ты не боишься когда-нибудь за все это поплатиться?
— Что ж, — отвечала она, — вместо того чтобы мешать наслаждения с печалями, я поделю мою жизнь на две части: первая — молодость, несомненно веселая, и вторая — старость, думаю, что печальная, — тогда настрадаюсь вволю…
— Она не любила, — грудным своим голосом сказала Акилина. — Ей не случалось пройти сто миль только для того, чтобы вне себя от восторга получить в награду единый взор, а затем отказ; никогда жизнь ее не висела на волоске, никогда не была она готова заколоть несколько человек, чтобы спасти своего повелителя, своего господина, своего бога… Любовь для нее — красавец полковник.
— А, опять Ларошель! — возразила Евфрасия. — Любовь — как ветер: мы не знаем, откуда он дует. Да, наконец, если тебя любил скот, ты станешь опасаться и умных людей, — Уголовный кодекс запрещает нам любить скотов, — насмешливо проговорила величественная Акилина.
— Я думала, ты снисходительнее к военным! — со смехом воскликнула Евфрасия.
— Ужели вы счастливы тем, что можете отречься от разума! — вскричал Рафаель.
— Счастливы? — переспросила Акилина, улыбаясь беспомощной, растерянной улыбкой и устремляя на обоих друзей отчаянный взгляд. — Ах, вы не знаете, что значит заставлять себя наслаждаться со смертью в душе…
Взглянуть в этот миг на гостиную — значило заранее увидеть нечто подобное Пандемониуму Мильтона[40]. Голубоватое пламя пунша окрасило лица тех, кто еще мог пить, в адские тона. Бешеные танцы, в которых находила себе выход первобытная сила, вызывали хохот и крики, раздававшиеся, как треск ракет. Будуар и малая гостиная походили на поле битвы, усеянное мертвыми и умирающими. Атмосфера была накалена вином, наслаждениями и речами. Опьянение, любовь, бред, самозабвение были в сердцах и на лицах, были начертаны на коврах, чувствовались в воцарившемся беспорядке, и на все взоры набросили они легкую пелену, сквозь которую воздух казался насыщенным опьяняющими парами. Вокруг, как блестящая пыль, трепещущая в солнечном луче, дрожала светлая мгла, и в ней шла игра самых затейливых форм, происходили самые причудливые столкновения. Там и сям группы сплетенных в объятии тел сливались с белыми мраморными статуями, с благородными шедеврами скульптуры, украшавшими комнаты. Оба друга еще сохраняли в мыслях своих и чувствах некую обманчивую ясность, последний трепет, несовершенное подобие жизни, но уже не могли различить, было ли что-нибудь реальное в тех странных фантазиях, что-нибудь правдоподобное в тех сверхъестественных картинах, которые беспрерывно проходили перед утомленными их глазами. Душное небо наших мечтаний, жгучая нежность, облекающая дымкой образы наших сновидений и чем-то скованная подвижность — словом, самые необычайные явления сна с такою живостью охватили их, что забавы кутежа они приняли за причуды кошмара, где движения бесшумны, а крики не доходят до слуха. В это время лакею, пользовавшемуся особым доверием Тайфера, удалось, не без труда, вызвать его в прихожую, а там он сказал хозяину на ухо:
— Сударь, все соседи смотрят в окна и жалуются на шум.
— Если они боятся шума, пусть положат соломы перед дверями! — воскликнул Тайфер.
Рафаэль между тем так неожиданно и неуместно расхохотался, что друг спросил его о причине этого дикого восторга.
— Тебе трудно будет понять меня, — отвечал тот. — Прежде всего следовало бы признаться, что вы остановили меня на набережной Вольтера в тот момент, когда я собирался броситься в Сену, — и ты, конечно, захочешь узнать, что именно толкало меня на самоубийство. Но много ли ты поймешь, если я добавлю, что незадолго до того почти сказочной игрою случая самые поэтические руины материального мира сосредоточились перед моим взором в символических картинах человеческой мудрости, меж тем как сейчас остатки всех духовных ценностей, разграбленных нами за столом, сводятся к этим двум женщинам, живым и оригинальным образам безумия, а наша полная беспечность относительно людей и вещей послужила переходом к чрезвычайно ярким аллегориям двух систем бытия, диаметрально противоположных? Если бы ты не был пьян, может быть, ты признал бы, что это целый философский трактат.
— Если б ты не положил обе ноги на обворожительную Акилину, храп которой имеет что-то общее с раскатами надвигающегося грома, ты покраснел бы и за свой хмель и за свою болтовню, — заметил Эмиль, который забавлялся тем, что завивал и развивал волосы Евфрасии, отдавая себе не слишком ясный отчет в этом невинном занятии. — Твои две системы могут уместиться в одной фразе и сводятся к одной мысли. Жизнь простая и механическая, притупляя наш разум трудом, приводит к некоей бездумной мудрости, тогда как жизнь, проходящая в пустоте абстракций или же в безднах мира нравственного, доводит до мудрости безумной. Словом, убить в себе чувства и дожить до старости или же умереть юным, приняв муку страстей, — вот наша участь. Должен, однако, заметить, что этот приговор вступает в борьбу с темпераментами, коими наделил нас жестокий шутник, заготовивший модели всех созданий.
— Глупец! — прервал его Рафаэль. — Попробуй и дальше так себя сокращать — и ты создашь целые тома! Если бы я намеревался точно формулировать эти две идеи, я сказал бы, что человек развращается, упражняя свой разум, и очищается невежеством. Это значит бросить обвинение обществу!
Но живи мы с мудрецами, погибай мы с безумцами, — не один ли, рано или поздно, будет результат? Потому-то великий извлекатель квинтэссенции и выразил некогда эти две системы в двух словах — «Каримари, Каримара! «[41] — Ты заставляешь меня усомниться во всемогуществе бога, ибо твоя глупость превышает его могущество, — возразил Эмиль. — Наш дорогой Рабле выразил эту философию изречением, более кратким, чем «Каримари, Каримара», — словами: «Быть может», откуда Монтэнь взял свое «Почем я знаю? « Эти последние слова науки нравственной не сводятся ли к восклицанию Пиррона[42], который остановился между добром и злом, как Буриданов осел[43] между двумя мерами овса? Оставим этот вечный спор, который и теперь кончается словами: «И да и нет». Что за опыт хотел ты проделать, намереваясь броситься в Сену? Уж не позавидовал ли ты гидравлической машине у моста Нотр-Дам?
— Ах, если бы ты знал мою жизнь!