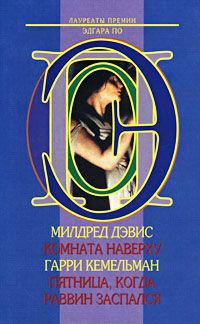Бернард Шоу - Новеллы
— Ах, у вденя ведь всюду есть друзья, — пускай неверные, но все же друзья. А у вас всюду есть враги и завистники.
Крогстад обиженно насупился.
— И вы их поощряете, разрешаете им болтать обо мне, — сказал он.
— Неужто вы до сих пор не поняли, что без этой болтовни вам не станет легче? А мне приятно слышать о вас, дружеское ухо — лучшее противоядие от злого языка. Ну вот что, Нильс, скажите правду о правлении банка. Вы же знаете, что почтенный стряпчий Хейердаль нажился за последние шесть лет во время биржевого бума, потому что тайно делился прибылью с маклерами, и пожелай кто-нибудь разоблачить этот сговор, ему не миновать суда и позора. Вы когда-нибудь дали ему это понять хоть намеком?
— О господи, нет, разумеется, пет.
— Или возьмем Арнольдсона, у него младший сын — горький пьяница. Вы ведь не наказываете родителей за грехи детей, помалкиваете об этом?
— Да, во всяком случае, при бедняге Арнольдсоне. Ах, Нора, если бы вы знали Арнольдсона, вы полюбили бы его. Поверьте, у него доброе сердце.
Нора не стала входить в обсуждение достоинств Арнольдсона.
— А Сведруп? — продолжала опа. — Его отец был цирюльник; а сам он так отвратительно измывается над слугами и помыкает бедными родственниками. Юхансена бьет жена. И жене Фалька тоже следовало бы бить своего муженька, это вполне соответствовало бы его собственным понятиям о справедливости, потому что он завел вторую семью, но ей об этом никто не скажет. Вы когда-нибудь пробовали урезонить Сведрупа или посочувствовать Юхансену? Решитесь ли вы прекратить знакомство с Фальком в осуждение его безнравственности?
— Конечно, нет, — сказал Крогстад. — Их личная жизнь меня не касается. Если бы люди были так нетерпимы друг к другу, их существование стало бы ужасным. Приходится, правда, поменьше знаться с Юхансеном, ведь невозможно приглашать его без жены; но от нее никогда не знаешь, чего ждать.
— А что, Кристина читает им когда-нибудь нравоучения вроде тех, какие читала мне?
— Как бы не так! — сказал Крогстад и снова насупился. — Они живо указали бы ей на дверь.
Нора мгновение смотрела на него, и в ее старых, умных глазах появился почти озорной блеск. Он снова подался вперед и хмуро уставился на ее ноги, которые, по мнению Кристины, были толсты до неприличия.
— Нильс, — сказала она наконец. — Вы круглый дурак.
— Но почему же? — воскликнул Нильс сердито — заячья его душа вдруг взыграла.
— Вы только глазами хлопаете, а ведь о том, что вы поддерживаете со мной знакомство и бываете здесь, члены правления знают так же хорошо, как о незаконных махинациях Хейердаля, спившемся сыне Арнольдсона, супружеских изменах Сведрупа и обо всем прочем. При вас они молчат обо мне; точно так же вы при них всегда молчите об их семейных неприятностях. Вы думаете, будто знаете о них всю подноготную, а они о вас ничего не знают. Все вы так думаете и отлично ладите между собой. Но известно ли вам, Нильс, что всякий раз, как ваш прострел в пояснице дает себя чувствовать, я непременно об этом узнаю, потому что многие справляются у меня о вашем здоровье.
— И вы!.. — воскликнул Крогстад, пораженный как громом. — Неужели вы даете понять, что вам это известно?
— Обычно я притворяюсь, будто не знаю. Мне приходится говорить, что вы но бывали у меня вот уже две недели, или месяц, или еще дольше.
Крогстад встал и медленно застегнулся.
— Нора, — сказал он, — вы меня предали, и я этого не прощу. Если б вы только знали, какое облегчение доставляли мне наши встречи, как помогали они мне в остальное время не уронить свое достоинство, вы, я уверен, были бы снисходительней. Прощайте.
— Именно этого я и ожидала, Нильс, — сказала она, не двигаясь. — Что ж, не согрешишь — не покаешься, не покаешься — не спасешься, а тайное покаяние превосходно очищает совесть, и можно все начинать сначала. Я уже давно замечаю, что вы всегда приходите ко мне после того, как совершите какой-нибудь особенно низкий поступок. Но вы позабыли, что ваш духовник не обязан соблюдать тайну исповеди. Я догадываюсь, что привело вас ко мне на сей раз. Ах нет, не то, что вы сказали Хейердалю: все это вздор, Крогстад, и вы это прекрасно знаете. Я говорю о своей дочери Эмми. Ну, полно же, сядьте и облегчите душу. Как это все случилось?
Крогстад не сел. Он упрямо продолжал стоять, но все-таки виновато развел руками и пожал плечами.
— Я только объяснил ей, что о ее браке с Нильсом не может быть и речи. Уж если хотите непременно знать правду, Роберт сделал подлог. — Он помолчал, потом вдруг покраснел и бросил ей прямо в лицо: — Подобно вам.
— Подобно мне! В таком случае, я его не виню. Кого он этим хотел спасти?
— Никого. Надо полагать, он просто хотел нажить на этом деньги.
— Ах, Нильс, Нильс, Нильс! — сказала опа, все еще испытывая к нему лишь снисходительную жалость. — И вы говорите, что он сделал это «подобно мне».
— Простите, — буркнул Крогстад. — Мне следовало сказать «подобно мне самому». Но я рассердился: вам не следовало рассказывать, что я здесь бываю. Хотя спору нет, вы имели на это право.
— И вы поступили с Эмми так же, как двадцать лет назад поступили со мной? Вы взяли подложный вексель и сказали, что будете бороться за свою репутацию не на жизнь, а на смерть, и ей придется выбирать между спасением вашей репутации и позором и разорением человека, которого она любит? — Крогстад попытался возражать, но взгляд его выдал правду, и она гневно сверкнула глазами. — В таком случае, — сказала она с горячностью, — все старания Кристины исправить вас пропали зря. Негодяй всегда останется негодяем!
Он смутился и покраснел, как сконфуженный юнец.
— Я не мог допустить, чтобы Нильс навлек на себя позор, — сказал он страдальческим голосом. — Клянусь, дети для меня дороже жизни. Вы не знаете, каково мое положение. Кстати, я вовсе ей не угрожал, даже намека такого себе не позволил. Я только молил ее. Она все сделала сама, согласилась добровольно — совершенно добровольно.
— Надеюсь, вы не преминули погладить ее по головке за то, что она такая послушная, такая умница, и заверить, что она получит воздаяние на небесах?
— Именно так я и сказал, слово в слово! — воскликнул он. — Вы виделись с ней: это она убедила вас вернуться.
— Как! — сказала Нора с удивлением. — Неужели вы не знаете?
— О чем?
— О том, что она утопилась.
Крогстад побледнел как смерть; потом на щеках у него проступили серые пятна. Он кое-как добрался до стула, тяжело сел, уронив руки и голову на стол. Нора смотрела на него с состраданием и ждала. Наконец он приподнял голову, но спросил только, нет ли у нее коньяка. Коньяка не было, но она спустилась вниз и взяла рюмку у фру Крог. Когда она вернулась, он сидел выпрямившись, опустив глаза в стол. На коньяк он даже не взглянул, и она не стала принуждать его выпить.
— Я никогда не думал… даже мысли не допускал, что может случиться такое, — сказал он наконец, потрясенный. Она хотела ответить, но он прервал ее умоляющим тоном: — Ради бога, ни слова: что толку теперь в этом? — И Нора готова была промолчать, но он сразу же стал допытываться, что она собиралась сказать, потом пробормотал: — Разве мог я поступить иначе?
— Да, Нильс, если бы вы действительно считали Эмми испорченной только потому, что она моя дочь, — сказала Нора, стараясь смягчить свой тон, — тогда бы вам ничего другого не оставалось. Все это могла бы сказать Кристина, причем совершенно искренне. А вы прекрасно все понимали и сознательно лицемерили. Вы цеплялись за свою репутацию; но душа у вас не настолько мелкая, чтобы вы могли зтим удовлетвориться. Вы жаждали нашей свободы; но душа у вас не настолько широкая, чтобы вы могли уйти к нам. Теперь вы видите, чем все кончилось. Эмми была бы спасена, если бы усвоила два урока: один совсем легкий, который могли бы дать ей вы, а другой потруднее, усвоить который, пожалуй, могла бы помочь ей я. Вы же знаете, Эмми была так воспитана, что непременно стремилась к добропорядочности, как ее понимает Кристина; и она не сомневалась, что эта добропорядочность зависит от добропорядочности ее отца, братьев, мужа и матери. Когда ее отец спился, а брат сделал подлог, у нее никого не осталось, кроме ее самой и матери. Но она была слишком юной и слишком слабой, чтобы обрести уверенность в себе; а мать ее, как все вы ей внушали, оказалась испорченной и порочной женщиной. Если бы в эту пору горького унижения и отчаянья я попыталась дать ей тяжкий урок, внушить, что она должна почувствовать себя самостоятельным человеком, она не поняла бы этого. Но если бы сама Добропорядочность обратилась к ней в лице мэра города и крупного банкира, который соблаговолил бы назваться другом ее матери, сказать, что у ее матери много друзей и эта женщина ничуть не испорченней и порочней собственной его супруги, разве она не обрела бы в этом утешение и опору, вместо того чтобы принять ту судьбу, которую вы с такой жестокостью предрекли мне двадцать лет назад — броситься в воду, под лед, может быть. В ледяную, черную глубину. А весной всплыть обезображенной, неузнаваемой, с вылезшими волосами. Видите, я ничего не забыла.