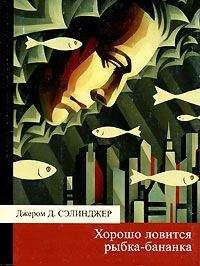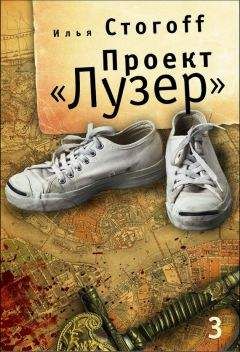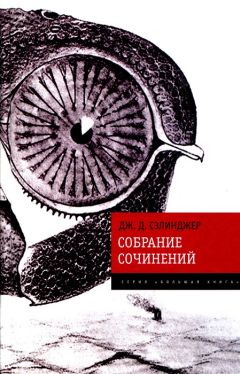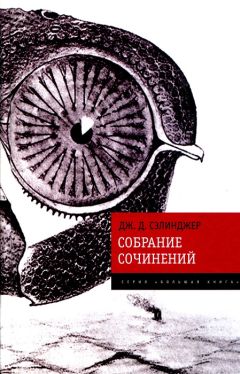Джером Сэлинджер - Девять рассказов
— Держи! — Она бросила пакетик ему на колени. И не промахнулась.
Лайонел поглядел на пакетик, взял в руку, еще поглядел — и внезапно швырнул его в воду. И сейчас же поднял глаза на Бу-Бу — в глазах был не вызов, но слезы. Еще мгновение — и губы его искривились опрокинутой восьмеркой, и он отчаянно заревел.
Бу-Бу встала — осторожно, будто в театре отсидела ногу — и спустилась в лодку. Через минуту она уже сидела на корме, держа рулевого на коленях, и укачивала его, и целовала в затылок, и сообщала кое-какие полезные сведения:
— Моряки не плачут, дружок. Моряки никогда не плачут. Только если их корабль пошел ко дну. Или если они потерпели крушение, и их носит на плоту, и им нечего пить, и…
— Сандра… сказала миссис Снелл… что наш папа… большой… грязный… июда…
Ее передернуло. Она спустила мальчика с колен, поставила перед собой и откинула волосы у него со лба.
— Сандра так и сказала, да?
Лайонел изо всех сил закивал головой. Он придвинулся ближе, все не переставая плакать, и встал у нее между колен.
— Ну, это еще не так страшно, — сказала Бу-Бу, стиснула сына коленями и крепко обняла. — Это еще не самая большая беда. — Она легонько куснула его ухо. — А ты знаешь, что такое иуда, малыш?
Лайонел ответил не сразу — то ли не мог говорить, то ли не хотел. Он молчал, вздрагивая и всхлипывая, пока слезы не утихли немного. И только тогда, уткнувшись в теплую шею Бу-Бу, выговорил глухо, но внятно:
— Чуда-юда… это в сказке… такая рыба-кит…
Бу-Бу легонько оттолкнула сына, чтобы поглядеть на него. И вдруг сунула руку сзади ему за пояс — он даже испугался, — но не шлепнула его, не ущипнула, а только старательно заправила ему рубашку.
— Вот что, — сказала она. — Сейчас мы поедем в город, и купим пикулей и хлеба, и перекусим прямо в машине, а потом поедем на станцию встречать папу, и привезем его домой, и пускай он покатает нас на лодке. И ты поможешь ему отнести паруса. Ладно?
— Ладно, — сказал Лайонел.
К дому они не шли, а бежали на перегонки. Лайонел прибежал первым.
Дорогой Эсме с любовью — и мерзопакостью
Совсем недавно я получил авиапочтой приглашение на свадьбу, которая состоится в Англии восемнадцатого апреля. Я бы дорого дал, чтобы попасть именно на эту свадьбу, и потому, когда пришло приглашение, в первый момент подумал, что, может быть, все-таки мне удастся полететь в Англию, а расходы — черт с ними. Но потом я очень тщательно обсудил это со своей женой, женщиной на диво рассудительной, и мы решили, что я не поеду: так, например, я совсем упустил из виду, что во второй половине апреля у нас собирается гостить теща. По правде сказать, я вижу матушку Гренчер не так уж часто, а она не становится моложе. Ей уже пятьдесят восемь. (Она и сама этого не скрывает.)
И все-таки, где я ни буду в тот день, мне кажется, я не из тех, кто хладнокровно допустит, чтобы чья-нибудь свадьба вышла донельзя пресной. И я стал действовать соответственно: набросал заметки, где содержаться кое-какие подробности о невесте, какою она была почти шесть лет тому назад, когда я ее знал. Если заметки мои доставят жениху, которого я в глаза не видел, несколько неприятных минут, — что ж, тем лучше. Никто и не собирается делать приятное, отнюдь. Скорее проинформировать и наставить.
Я был одним из шестидесяти американских военнослужащих, которые в апреле 1944 года под руководством английской разведки проходили в Девоншире (Англия) весьма специальную подготовку в связи с предстоящей высадкой на континент. Сейчас, когда я оглядываюсь назад, мне кажется, что народ у нас тогда подобрался довольно своеобразный — из всех шестидесяти не нашлось ни одного общительного человека. Мы все больше писали письма, а если и обращались друг к другу по неслужебным делам, то обычно за тем, чтобы спросить, нет ли у кого чернил, которые сейчас ему нужны.
В те часы, когда мы не писали и не сидели на занятиях, каждый был предоставлен самому себе. Я, например, в ясные дни обычно бродил по живописным окрестностям, а в дождливые забирался куда-нибудь в сухое место и читал, зачастую как раз на таком расстоянии от стола для пинг-понга, откуда можно было бы хватить его топором.
Наши занятия, длившиеся три недели, закончились в субботу, очень дождливую. В семь часов вечера вся наша группа выезжала поездом в Лондон, где нас, по слухам, должны были распределить по пехотным и воздушно-десантным дивизиям, готовящимся к высадке на континент. В три часа дня я сложил в вещевой мешок все свои пожитки, включая брезентовую сумку от противогаза, набитую книгами, которые я привез из-за океана (противогаз я вышвырнул в иллюминатор на «Мавритании» еще с месяц тому назад, прекрасно понимая, что, если враг когда-нибудь в самом деле применит газы, я все равно не успею нацепить эту чертову маску вовремя). Я помню, что очень долго стоял у окна в конце казармы и смотрел на скучный косой дождь, не ощущая никакой воинственности, ни в малейшей степени. Позади слышалось, как множество авторучек чиркает вразнобой по многочисленным бланкам для микро-фотописем.
Внезапно, без всякой определенной цели, я отошел от окна, надел дождевик, кашемировый шарф, галоши, теплые перчатки и пилотку (я надевал ее не как положено, а по-своему, слегка надвигая на оба уха, — мне и сейчас еще об этом напоминают), затем, сверив свои часы с часами в уборной, я стал спускаться с холма по залитой дождем мощеной дороге, которая вела в город. На молнии, сверкавшие со всех сторон, я не обращал внимания. Либо уж на какой-нибудь из них стоит твой номер, либо нет.
В центре городка, где было, пожалуй, мокрее всего, я остановился перед церковью и стал читать написанные на доске объявления — главным образом потому, что четкие цифры, белыми по черному, привлекали мое внимание, а еще и потому, что после трех лет пребывания в армии я пристрастился к чтению объявлений. В три пятнадцать — говорилось в одном из них — состоится спевка детского хора. Я посмотрел на свои часы, потом снова на объявление. К нему был приклеен листок с фамилиями детей, которые должны явиться на спевку. Я стоял под дождем, пока не прочитал все фамилии, потом вошел в церковь.
На скамьях сидело человек десять взрослых, некоторые из них держали на коленях детские галошки, подошвами вверх. Я прошел вперед и сел в первом ряду. На возвышении, на деревянных откидных стульях, тесно сдвинутых в три ряда, сидело около двадцати детей, большей частью девочек, в возрасте от семи до тринадцати лет. Как раз в этот момент руководительница хора, могучего телосложения женщина в твидовом костюме, наставляла их, чтобы они пошире раскрывали рты, когда поют. Разве кто-нибудь когда-нибудь слышал, спрашивала она, чтобы птичка отважилась спеть свою прелестную песенку, не раскрыв своего клювика широко-широко-широко? Такого, по-видимому, никто никогда не слышал. Дети смотрели на нее непроницаемым взглядом. Потом она сказала, что хочет, чтобы каждый из ее деток понимал смысл слов, которые поет, а не просто произносил их, как попка-дурак.
Тут она дунула в камертон-дудку, и дети, словно малолетние штангисты, подняли сборники гимнов.
Они пели без всякого музыкального сопровождения, или, как правильнее было бы выразиться в данном случае, без всякой помехи. Голоса их звучали мелодично, без малейшей сентиментальности, и человек, более склонный к религиозным чувствам, чем я, мог бы без особого напряжения испытать душевный подъем. Правда, двое самых маленьких все время чуть-чуть отставали, но получалось у них это так, что разве мамаша композитора могла бы придраться. Гимна этого я никогда раньше не слышал, однако меня не оставляла надежда, что в нем будет стихов двенадцать, а то и больше. Слушая пение, я всматривался во все детские лица, но одно из них — лицо моей ближайшей соседки, сидевшей на крайнем стуле в первом ряду, — особенно привлекло мое внимание. Это была девочка лет тринадцати с прямыми пепельными волосами, едва покрывавшими уши, прекрасным лбом и холодноватыми глазами — не исключено, что эти глаза оценивают публику, которая собралась сейчас в церкви. Голос ее явственно выделялся из всех остальных — и не только потому, что она сидела ко мне ближе, чем другие. Самый высокий и чистый, самый мелодичный, самый уверенный, он естественно вел за собой весь хор. Но юной леди, по-видимому, слегка прискучило ее дарование, а может быть, ей просто было скучно сейчас в церкви. Я видел, как в перерывах между стихами она дважды зевнула. Зевок был благовоспитанный, с закрытым ртом, но все-таки его можно было заметить: подрагивание ноздрей выдавало ее.
Как только гимн кончился, руководительница хора начала пространно высказываться о людях, которые во время проповеди не могут держать ноги вместе, а рот на замке. Из этого я заключил, что спевка закончена, и, не дожидаясь, пока голос регентши, прозвучавший неприятным диссонансом, полностью нарушит очарование детского пения, я поднялся и вышел из церкви.