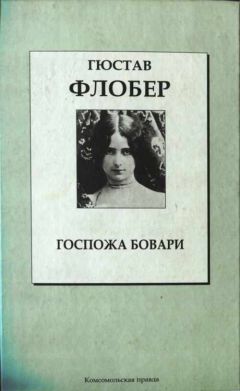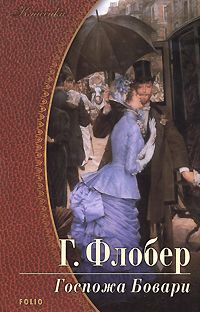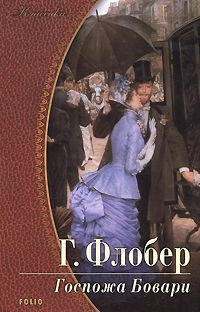Гюстав Флобер - Госпожа Бовари. Воспитание чувств
Дельмар не упускал случая взять слово, а когда ему больше нечего было сказать, он одной рукой упирался в бок, а другую закладывал за жилет, оборачиваясь в профиль, чтобы резче выделялась его голова. Тогда раздавались рукоплескания — это м-ль Ватназ аплодировала из глубины зала.
Несмотря на то, что ораторы были слабые, Фредерик не решался выступить. Вся эта толпа казалась ему слишком невежественной или слишком враждебной.
Но за дело взялся Дюссардье и однажды сообщил ему, что на улице Сен-Жак есть клуб, именуемый «Клубом Разума». Подобное название обнадеживало. К тому же он обещал привести друзей.
Привел он тех, кто был у него на пунше: счетовода, агента по делам виноторговли, архитектора; явился даже Пеллерен, можно было ждать и Юссонэ, а на улице у входа стоял Режембар с двумя субъектами — один из них был его верный Компен, человек низенького роста, с рябым лицом и красными глазами, а другой — нечто вроде негра-обезьяны, мужчина чрезвычайно волосатый, о котором ему было известно только то, что он — «патриот из Барселоны».
Миновав коридор, вошли в большую комнату, служившую, по-видимому, столярной мастерской; от стен, лишь недавно оштукатуренных, пахло известкой. Четыре кенкета, прибитые друг против друга, лили неприятный свет. В глубине, на возвышении, стояла конторка, на ней был колокольчик, внизу стол, заменявший трибуну, а по обе его стороны — два других стола пониже, для секретарей. Публика, занимавшая скамейки, состояла из неудавшихся художников, классных наставников, неизданных сочинителей. Среди целого ряда пальто с засаленными воротниками виднелись то женский чепец, то рабочая блуза. В конце зала было даже очень много рабочих, пришедших сюда, вероятно, от нечего делать или приведенных ораторами, которым надлежало аплодировать.
Фредерик выбрал себе место между Дюссардье и Режембаром, который, усевшись, положил обе руки на свою трость, оперся на них подбородком и закрыл глаза; а на другом конце зала Дельмар, стоя, возвышался над всеми.
У конторки на председательском месте появился Сенекаль.
Эта неожиданность — так думал простачок-приказчик — будет приятна Фредерику. Она же рассердила его.
Толпа проявляла большое уважение к своему председателю. Он был из числа тех, кто 25 февраля требовал немедленной организации труда;[204] на следующий день он в Прадо призывал к нападению на Ратушу; а так как здесь каждое лицо следовало определенному образцу, причем один брал пример с Сен-Жюста, другой — с Дантона, третий — с Марата, то он старался подделаться под Бланки, который подражал Робеспьеру. Черные перчатки и волосы щеткой придавали ему строгий вид, чрезвычайно подходящий к случаю.
Заседание он открыл чтением «Декларации прав человека и гражданина», превратившимся в привычный обряд. Потом чей-то здоровенный голос затянул «Народную память» Беранже.
Послышались другие голоса:
— Нет! Нет! Не это!
— «Фуражку»! — заорали из глубины зала патриоты.
И хором запели злободневные стихи:
На колени — перед рабочим,
Перед фуражкой — шляпы долой!
Повинуясь слову председателя, аудитория смолкла. Один из секретарей начал перебирать письма:
«Группа молодых людей сообщает, что каждый вечер они сжигают перед Пантеоном номер «Национального собрания»[205] и приглашают всех патриотов следовать их примеру».
— Браво! Принято! — ответила толпа.
«Гражданин Жан-Жак Лангрене, типограф с улицы Дофина, желал бы, чтобы мученикам Термидора был воздвигнут памятник».
«Мишель-Эварист-Непомюсен Венсан, бывший учитель, выражает желание, чтобы европейская демократия установила единый язык. Можно было бы воспользоваться одним из мертвых языков, например, латынью, усовершенствовав ее».
— Нет! Долой латынь! — закричал архитектор.
— Почему? — спросил какой-то классный наставник.
Они затеяли спор, в который вступили и другие, причем каждый старался блеснуть, и сделалось так скучно, что многие ушли.
Но вот низенький старичок в зеленых очках, над которыми подымался удивительно высокий лоб, потребовал слова, чтобы сделать неотложное сообщение.
Он прочел докладную записку о распределении налогов. Цифры лились, и конца не предвиделось. Нетерпение выразилось сперва ворчанием, разговорами; ничто не смущало его. Потом начали свистеть, улюлюкать; Сенекаль пожурил публику; старичок продолжал говорить, точно заведенная машина. Чтобы остановить оратора, пришлось схватить его за локоть. Тогда он словно очнулся от сна и, спокойно подняв очки, сказал:
— Виноват, граждане! Виноват! Удаляюсь! Прошу извинения!
Неудача, постигшая это выступление, смутила Фредерика. В кармане у него лежала написанная речь, но импровизация могла бы иметь больше успеха.
Наконец председатель объявил, что пора перейти к главному вопросу — к выборам. Длинные республиканские списки не стоило обсуждать. Однако ведь «Клуб Разума», как и всякий иной, имел право составить свой список, — «да не прогневаются господа падишахи из Ратуши», — и гражданам, желавшим удостоиться доверия народа, предоставлялось объявить свое имя и звание.
— Ну, начинайте! — сказал Дюссардье.
Человек в сутане, с курчавыми волосами и с бойким выражением лица, уже поднял руку. Он пробормотал, что его зовут Дюкрето, сообщил, что он священник и агроном, автор ученого труда «Об удобрениях». Ему посоветовали обратиться в общество садоводов.
Затем на трибуну поднялся патриот в блузе. Это был широкоплечий плебей с длинными черными волосами и полным, очень добродушным лицом. Он обвел собрание взглядом почти сладострастным, откинул голову и наконец, разведя руками, начал:
— Вы отвергли Дюкрето, братья мои! И хорошо поступили. Но поступили вы так не от безверия, ибо все мы верующие.
Некоторые слушали его, разинув рот, приняв восторженные позы, точно прозелиты, которых наставляют в вере.
— И поступили вы так не потому, что он священнослужитель, ибо мы тоже священнослужители! Рабочий — священнослужитель так же, как и основоположник социализма, наш общий учитель Иисус Христос!
Настало время утвердить царство божие на земле! Евангелие — прямой путь к восемьдесят девятому году! После уничтожения рабства — освобождение пролетариата. Миновал век ненависти, настанет век любви.
Христианство — основа, краеугольный камень нового здания…
— Смеетесь вы над нами, что ли? — крикнул агент по винной торговле. — Откуда этот поп?
Выпад его вызвал большую суматоху. Почти все повскакали на скамейки и, сжав кулаки, завопили: «Безбожник! Аристократ! Сволочь!» — меж тем как председатель не переставая звонил и с удвоенной силой раздавались крики: «К порядку! К порядку!» Но лавочник, преисполненный отваги и к тому же подкрепившийся до собрания «тремя чашками кофе», отбивался.
— Как! Я аристократ? Это еще что?!
Получив наконец позволение объясниться, он заявил, что спокойствия не будет, пока существуют священники, и раз речь идет об экономии, то всего экономнее упразднить церкви, дароносицы и вообще всякие обряды.
Кто-то заметил, что он заходит слишком далеко.
— Да, я далеко захожу! Но когда корабль застигнут бурей…
Не дожидаясь, чем кончится это сравнение, другой возразил:
— Не спорю! Но это то же самое, что разрушить одним ударом, как поступает безрассудный каменщик…
— Вы оскорбляете каменщиков! — завопил какой-то гражданин, весь в известке.
И, вообразив, что ему брошен вызов, он стал ругаться, хотел затеять драку, схватился за скамейку. Понадобилось три человека, чтобы выставить его из зала.
А между тем рабочий все еще стоял на трибуне. Оба секретаря предупреждали его, что пора сойти. Он протестовал против такого нарушения его законных прав:
— Вы не можете заткнуть мне рот, я буду кричать: нашей дорогой Франции — вечная любовь! Республике — тоже вечная любовь!
— Граждане! — возгласил Компен. — Граждане!
И, добившись некоторого затишья благодаря неустанному повторению слова «граждане», он положил на кафедру свои красные, похожие на обрубки руки, наклонился вперед и, замигав, сказал:
— Полагаю, что следовало бы найти более широкое применение телячьей голове.
Все безмолвствовали, подумав, что ослышались.
— Да, телячьей голове!
Триста человек, как один, ответили взрывом смеха. Задрожал потолок. Увидев все эти лица, исказившиеся от хохота, Компен отпрянул назад. Он продолжал, рассвирепев:
— Как! Вы не знаете, что такое телячья голова?
Тут уже начали бесноваться. Хватались за бока. Некоторые даже падали на пол, валились под скамейки. Компен, не выдержав, вернулся к Режембару и хотел увести его.