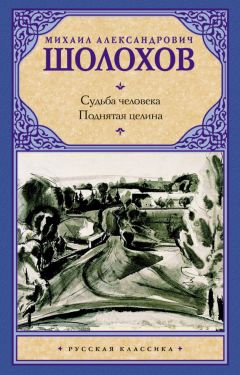Михаил Шолохов - Поднятая целина
Под размеренные причитания Щукаря Давыдов крепко уснул.
Проснулся он перед восходом солнца. Рядом с ним, привалившись боком к стенке стога и поджав ноги, сидела Варя и перебирала на его лбу спутанные пряди волос – и так нежны и осторожны были касания ее девичьих пальцев, что Давыдов, уже проснувшись, еле ощущал их. А на ее месте, на дрожках, укрывшись давыдовским пальто, крепко спал дед Щукарь.
Розовая, как эта зоренька, Варя тихонько сказала:
– А я уже сбегала к пруду, умылась. Буди дедушку, давай ехать! – Она легко прижалась губами к колючей щеке Давыдова, пружинисто вскочила на ноги. – Пойдешь умываться, Сема? Я покажу дорогу к пруду.
Осипшим со сна голосом Давыдов ответил:
– Проспал я свое умывание, Варюха, где-нибудь дорогой умоюсь. А этот старый суслик давно тебя разбудил?
– Он меня не будил. Я проснулась на рассвете, а он сидит возле тебя, обнял колени руками и цигарку курит. Я спрашиваю: «Ты чего не спишь, дедушка?» А он отвечает: «Я всю ночь не сплю, милушка, тут кругом змей полно. Ты пойди погуляй по степи, а я на твоем месте хоть часок в спокойствии усну». Я встала и пошла умываться к пруду.
В первой половине этого дня они были уже в Миллерове. За полчаса Давыдов управился в окружкоме, вышел на улицу веселый, довольно улыбающийся:
– Все решил секретарь, как и надо решать в окружкоме, быстро и дельно: тебя, моя Горюха, возьмут под свою опеку девчата из окружкома комсомола, а сейчас поедем в сельхозтехникум, буду тебя устраивать на новое местожительство. Договоренность с заместителем директора уже есть. До начала приемных испытаний с тобой позанимаются преподаватели, и к осени будешь ты у меня подкована на все четыре ноги, факт! Девчатки из окружкома будут тебя проведывать, договорился с ними по телефону. – По привычке Давыдов оживленно потер руки, спросил: – А знаешь, Варюха, кого к нам посылают в хутор секретарем комсомольской организации? Кого бы ты думала? Ивана Найденова, паренька, который был у нас зимой с агитколонной. Очень толковый парень, я страшно рад буду его приезду. Тогда у нас дело с комсомолом пойдет на лад, это я тебе фактически говорю!
За два часа все было улажено и в сельхозтехникуме. Подошла пора расставаться. Давыдов твердо сказал:
– До свидания, милая моя Варюха-горюха, не скучай и хорошенько учись, а мы там без тебя не пропадем.
Впервые он поцеловал Варю в губы. Пошел по коридору. На выходе оглянулся, и вдруг такая острая жалость стиснула его сердце, что ему показалось, будто шероховатый пол закачался под его ногами, как палуба: Варя стояла, прижавшись к стене лбом, уткнув лицо в ладони, голубенькая косынка ее съехала на плечи, и столько было во всей ее фигуре беспомощности и недетского горя, что Давыдов только крякнул и поспешил выйти во двор.
К исходу третьих суток после отъезда из хутора он уже вернулся в Гремячий.
Несмотря на поздний час, в правлении колхоза его ожидали Нагульнов и Размётнов. Нагульнов хмуро поздоровался с ним, так же хмуро сказал:
– Ты что-то, Семен, последние дни и дома не живешь: в станицу съездил, а потом в окружком… Какая нужда тебя в Миллерово-то носила?
– Обо всем доложу в свое время. А у вас что нового в хуторе?
Вместо ответа Размётнов спросил:
– Ты дорогой видел хлеба? Ну как они там, подошли уже?
– Ячмень кое-где уже можно косить, выборочным порядком, рожь – тоже. Ну, рожь, по-моему, можно класть наповал, но что-то соседи наши медлят.
Как бы про себя Размётнов проговорил:
– Тогда не будем и мы спешить. С зеленцой ее повалять можно при хорошей погоде, она и в валках дойдет, – а ежели дождь? Вот и пиши пропало.
Нагульнов согласился с ним:
– Тройку дней подождать можно, но потом уже браться за покос надо и руками и зубами, иначе райком съест тебя, Семен. А нас с Андреем на закуску… Да, имею и я новость: есть у меня в совхозе дружок по военной службе, ездил я его проведать вчера. Он давно меня приглашал нá-гости, да все как-то неуправно было, а вчера решился – думаю: смотаюсь к нему на денек, проведаю приятеля, а кстати и погляжу, как трактора работают.
Сроду не видал, и дюже мне это было любопытно! У них там пары пашут, я и проторчал в поле целый день. Ну, братцы, и штука, должен я вам сказать, этот трактор «фордзон»! Рысью пашет пары. А как только напорется на целину где-нибудь на повороте, так у него, у бедного, силенок и не хватает. Подымется вдыбки, как норовистый конь перед препятствием, постоит-постоит и опять вдарится колесами об землю, поспешает поскорее убраться обратно на пары, не под силу ему целина… Но иметь пару таких лошадок у нас в колхозе все равно было бы невредно, вот о чем я думал и думаю все время. Дюже уж завидная в хозяйстве штука! Так меня это завлекло, что с дружком даже выпить не успели. Прямо с поля повернулся и поехал домой.
– Ты же думал в Мартыновскую МТС съездить? – спросил Размётнов.
– А какая разница – в МТС или в совхоз? И там трактора, и тут такие же. Да и далековато, а покос – вот он, на носу.
Размётнов хитро сощурился:
– А я, признаться, грешил на тебя, Макар, что ты по пути из Мартыновской завернешь в Шахты проведать Лукерью…
– И в мыслях не держал! – решительно сказал Нагульнов. – А вот ты небось бы заехал, знаю я тебя, белобрысого!
Размётнов вздохнул:
– Будь она моей предбывшей женой, я бы не только непременно заехал, но и прогостил у нее не меньше недели! – И уже шутливо добавил: – Я не такой соломенный тюфяк, как ты!
– Знаю я тебя, – повторил Нагульнов. И, подумав, тоже добавил: – Чертова бабника! Но и я не такой бегунец по бабам, как ты!
Размётнов пожал плечами:
– Я вдовцом живу тринадцатый год. Чего ты от меня хочешь?
– Вот потому ты и бегунец.
После короткого молчания Размётнов уже совершенно серьезно и тихо сказал:
– А может, я все двенадцать годов одну люблю, ты же не знаешь?
– Это ты-то? Поверю я тебе, как же!
– Одну!
– Уж не Марину ли Пояркову?
– Не твое дело – кого, и ты в чужую душу не лезь! Может быть, когда-нибудь, под пьяную руку, я и рассказал бы тебе, кого любил и доныне люблю, но ведь… Холодный ты человек, Макар, с тобой по душам сроду не поговоришь. Ты в каком месяце родился?
– В декабре.
– Я так и думал. Не иначе, тебя мать у проруби на льду родила – пошла за водой и по нечаянности разродилась прямо на льду: потому-то от тебя всю жизнь холодом несет. Как же тебе признаешься от сердца?
– А ты, видать, на горячей плите родился?
Размётнов охотно согласился:
– Дюже похоже! Потому от меня и пышет жаром, как при суховее. А вот ты – другое дело.
С досадой Нагульнов сказал:
– Надоело! Хватит об нас с тобой и об бабах разговаривать, давай лучше потолкуем об том, кому из нас в какую бригаду направляться на уборку.
– Нет, – возразил Размётнов, – давай уж прикончим начатый разговор, а кому в какую бригаду ехать – это мы успеем поговорить. Ты спокойночко рассуди, Макар, вот об чем: прозвал ты меня бегунцом, а какой же я бегунец по нынешним временам, ежели я вскорости вас обоих на свадьбу кликать буду?..
– Это ишо на какую свадьбу? – строго спросил Нагульнов.
– На мою собственную. Мать окончательно старухой стала, тяжело ей в хозяйстве, заставляет жениться.
– И ты послушаешься ее, старый дурак? – Нагульнов не мог скрыть своего величайшего возмущения.
С притворным смирением Размётнов ответил:
– А куда же мне деваться, миленький мой?
– Ну и трижды дурак! – Затем, почесав в раздумье переносицу, Нагульнов заключил: – Придется нам, Семен, снимать с тобой одну квартиру и жить вместе, чтобы не так скучно было. А на воротах напишем: «Тут живут одни холостяки».
Давыдов не замедлил с ответом:
– Ничего у нас, Макар, из этой затеи не выйдет: невеста у меня есть, потому и ездил в Миллерово.
Нагульнов переводил испытующий взгляд с одного на другого, пытаясь разгадать, шутят они или нет, а потом медленно поднялся, раздувая ноздри, даже несколько побледнев от волнения.
– Да вы что, перебесились, что ли?! Последний раз спрашиваю: всурьез вы это говорите или высмеиваетесь надо мной? – Но, не дождавшись ответа, плюнул под ноги со страшным ожесточением, не прощаясь, вышел из комнаты.
Глава XXVI
Дурея от скуки, с каждым днем все больше морально опускаясь от вынужденного безделья, Половцев и Лятьевский по-прежнему коротали дни и ночи в тесной горенке Якова Лукича.
В последнее время что-то значительно реже стали навещать их связные, а обнадеживающие обещания из краевого повстанческого центра, которые доставлялись им в простеньких, но добротно заделанных пакетах, уже давно утратили для них всякую цену…
Половцев, пожалуй, легче переносил длительное затворничество, даже наружно он казался более уравновешенным, но Лятьевский изредка срывался, и каждый раз по-особому: то сутками молчал, глядя на стену перед собой потухшим глазом, то становился необычайно, прямо-таки безудержно болтливым, и тогда Половцев, несмотря на жару, с головой укрывался буркой, временами испытывая почти неодолимое желание подняться, вынуть шашку из ножен и сплеча рубнуть по аккуратно причесанной голове Лятьевского. А однажды с наступлением темноты Лятьевский незаметно исчез из дома и появился только перед рассветом, притащив с собой целую охапку влажных цветов.