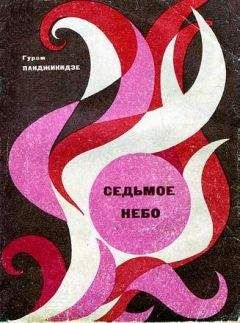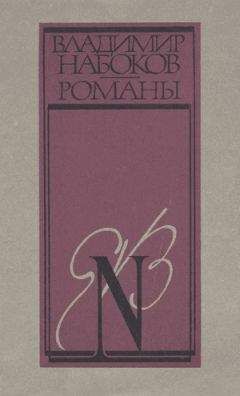Винцас Миколайтис-Путинас - В тени алтарей
Дружба Людаса Васариса и Ауксе Гражулите крепла. Они часто встречались и не боялись показываться вместе в общественных местах, ходили в театр, на каток, в хорошую погоду совершали загородные прогулки, бывали в гостях. Отец Ауксе привык к Людасу, как к своему человеку, и радовался, что дочка не скучает в одиночестве. Трудно было понять, догадывался ли старый Гражулис, какое чувство связывало его дочь с Васарисом. Никогда он с нею об этом не заговаривал, да и Васарис, внимательно наблюдавший его, никакого вывода сделать не мог. Одно было ясно — старика мало беспокоил духовный сан Васариса, и он как будто совсем забыл, что его гость ксендз.
Однако в городе дружба Васариса с Ауксе многим бросалась в глаза. Богомолки возмущались и злословили. Местные барыньки возводили на них всякие небылицы. Отвергнутые поклонники Ауксе, вроде Индрулиса, презрительно пожимали плечами и называли ее «такой особой». Люди с сомнительным прошлым, на себе самих испытавшие всю мерзость греха и считавшие женщин сосудом дьявольским, во всеоружии самой возвышенной аргументации уличали Васариса в падении.
И Васарис и Ауксе все это видели и слышали. Однажды Ауксе пожаловалась Васарису:
— Нет, в этом городишке можно задохнуться. Столько здесь злобы, зависти, неуважения к личности и духовного кретинизма, что поневоле мечтаешь о большом городе, где не замечаешь ни любопытных глаз, ни длинных ушей. Бедняги! Как они все заблуждаются в отношении нас!
— Единственное, что меня утешает, это мудрое изречение: numerus stultorum est infinitus[206], — успокаивал ее Васарис. — Если бы это касалось только нас — беда небольшая. Но подумай о том, что в этой духоте гибнет всякая творческая инициатива и энтузиазм. Нет человека без грехов и пороков. А если в каждой кофейне выворачивают наизнанку не только твои грехи, но и всего тебя, то откуда возьмутся высокие порывы, чувство собственного достоинства и авторитет? Если правильно изречение: «Нет пророка в своем отечестве», то в отношении нас оно сто раз правильно.
— Единственный выход — запереться в четырех стенах и с крыши любоваться окрестностями Каунаса. Там чище воздух.
— Как сказать, — усомнился Васарис, — злые сплетни какого-нибудь идиота проникнут скорее, чем ядовитые гады, и за семь замков. Здесь требуется какая-то аскетическая нечувствительность или способность удерживаться на высоте духа, куда не достает ни дым, ни пыль.
Вскоре ему действительно пришлось убедиться, что и четыре стены не охраняют от назойливого вторжения посторонних. Он мало где появлялся. Все свободное от гимназии время проводил дома, писал, а больше обдумывал свое произведение, которое собирался начать во время каникул.
Все хорошие знакомые как-то незаметно от него отдалились. Варненас сам засел за работу. Мяшкенас оставил его в покое, Индрулис избегал, а Стрипайтис слонялся по всей Литве, организуя митинги и собрания, потому что весной должны были состояться новые выборы в сейм. Вся печать была полна межпартийной грызней, взаимными обвинениями и демагогией.
Был уже великий пост. Как-то в субботу после обеда, когда Васарис, вернувшись из гимназии, рылся в своих бумагах, в дверь громко постучали, и он услышал резкий голос отца Северинаса:
— Laudetur Jesus Christus!
Стараясь скрыть неудовольствие, Людас попросил гостя сесть и, догадываясь, что разговор будет не из приятных, поставил перед собой пепельницу и коробку папирос.
— Простите, domine, — начал, усаживаясь, монах, — что не предупредил и явился неожиданно. Думаю, вечер субботний, вы свободны, может, я и не слишком обременю.
— Ничего, — подтвердил Васарис, — я просто просматривал старые рукописи.
— Да, на то и дан нам пост, чтобы мы пересматривали свои труды, книгу своей жизни, — торжественно изрек отец Северинас, своей неуклюжей аллегорией наводя разговор на серьезную тему.
Васарис молча ждал, что за этим последует.
— Вероятно, вы догадываетесь, domine, что я пришел не ради пустой болтовни, но для серьезного разговора, как и подобает во время великого поста людям духовного звания.
Людас зажег папиросу и ответил:
— Кажется, догадываюсь. Правда, когда-то вы намеревались прийти ко мне и побеседовать на более легкие темы: о годах учения, о жизни за границей, о Риме.
— Помню. К сожалению, уважаемый, наши отношения не таковы, чтобы допускать дружеские беседы. Я пришел потому, что меня призвал сюда голос сурового долга.
— К чему этот торжественный тон, отец? Поговорим просто и искренне.
Монах долго не отвечал. Засунув руки в широкие рукава своего одеяния, он откинулся на спинку дивана, опустил голову и о чем-то задумался. Должно быть, он старался угадать, как именно обратиться к заблудшему собрату, чье желание поговорить просто и искренне указывало на его уверенность в себе. А может быть, отец Северинас сосредоточенно просил святого духа о ниспослании вдохновения, как привык делать всякий раз, собираясь произнести слово господне.
И действительно глаза монаха зажглись вдохновением, он поднял голову и, вперив в лицо Васариса горящий взгляд, заговорил:
— Ксендз! Быть может, в последний раз я называю тебя этим благородным именем. Ты хочешь отречься от него, а может быть, уже и отрекся. Но позволь мне все же в последний раз воззвать к твоей совести. Господь, милостив, и непостижимы пути, которыми он ведет грешников к спасительной гавани. Если я послужу орудием в руках господа, то наша беседа не пропадет даром.
Васарис хотел было посмеяться над этим пафосом, но лицо монаха изобличало такое волнение, что он и сам почувствовал покоряющую силу его слов.
— Ксендз Васарис, — продолжал монах, — ясно ли ты представляешь себе то положение, в котором очутился? Если бы ты мог поглядеть на себя со стороны, ты бы испугался своего образа. Вот ксендз, посвятивший себя богу, давший клятву послушания и верности церкви, теперь изменил ей, обмирщился, отрекся от своего долга и возмущает своим поведением верующих. Что может быть прискорбнее?
Увы, эти трафаретные слова медитаций и реколлекций, много раз слышанные Васарисом! А он то ждал от монаха чего-нибудь нового.
— Трогательные речи не производят на меня впечатления, отец. Я не раз задумывался о своем положении. Поступки мои вытекают из моих убеждений, из желания, из принятого решения. Поэтому я прошу вас говорить яснее и точнее.
Отец Северинас с минуту поколебался, но тут же собрался с мыслями и, придав голосу твердость, возобновил атаку:
— Вы восстаете против церкви!
— Нет, — отрезал Васарис. — Я хочу только сбросить с себя путы, наложенные на меня церковью — терпеть их я не в силах.
— А, вы хотите избавиться от пут церкви, чтобы беспрепятственно грешить… Будьте откровенны, ксендз, признайтесь, что восстаете против церкви не из-за убеждений, не из-за благородной цели, но чтобы дать волю плотской страсти, из-за женщины, из за девки!
Монах произнес последние слова так цинично, с таким отвращением, словно боялся оскверниться. Васарис ткнул папиросу в пепельницу и вскочил с места.
— Отец! — воскликнул он, едва владея собой. — Я уважаю ваш сан, ваше желание помочь мне, но то, что вы сказали обо мне — чепуха и отвратительная клевета! Я с первого года в семинарии боролся за свой талант, за все лучшее, что было в моей душе, за духовную, творческую свободу, наконец за внутреннюю гармонию и спокойную совесть. Если в эту борьбу вмешалась женщина, если она помогла мне узнать самого себя, лучше разобраться в своих чувствах и склонностях, вы не имеете права презирать ее за это. Упрощать и сводить все к пошлости — легко. Я мог бы сказать, что и вы совершаете богослужение не ради идеи, но ради легкого куска хлеба, ради денег! Это было бы правильней, чем ваши выводы, будто я хочу освобождения ради плотских наслаждений и женщины!
Слова лились из уст Васариса, словно неожиданно прорвавшийся поток. Отец Северинас, не ожидавший такого упорного сопротивления, с удивлением слушал его, но сдаваться не собирался.
— Ваше постоянное общение с этой женщиной всех возмущает. Вы лишитесь доброго имени не только как пастырь, но и как человек! Таких свободных отношений не потерпит не только церковь, но и общество!
Васарис. решил идти до конца.
— О моем духовном сане больше говорить не станем. С этим покончено, и вы не убедите меня никакими доводами. А теперь скажите, пожалуйста, где, кем и когда было запрещено дружить с женщиной и даже любить ее? Не говорите мне ни о каком возмущении. Одна святоша на исповеди призналась, что ее ввели в соблазн брюки ксендза. Возмущение глупцов и фарисеев столько же беспокоит меня, сколько гусиный гогот или собачий лай. Прежде чем осуждать, надо знать кого и за что вы осуждаете. Моих отношений с этой, как вы сказали, женщиной никто не знает. У нас с ней нет причин скрывать их, а тем более отрекаться от них. Она мне нужна — вот и все.