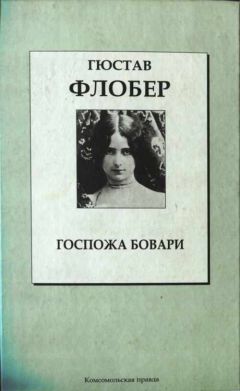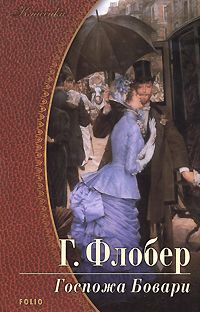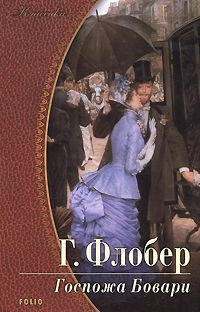Гюстав Флобер - Госпожа Бовари. Воспитание чувств
Писем не приносили. Это отсутствие новостей его успокоило.
Он начал гадать, — беря за примету лицо прохожего, масть лошади, количество монет, наудачу выхваченных из кармана, а если предсказание было неблагоприятно, старался не верить ему. В припадках озлобления он вслух, но вполголоса, ругал г-жу Арну. Потом наступала такая слабость, что он почти терял сознание, и вдруг снова приливала надежда. Она сейчас появится. Она здесь, за его спиной. Он оборачивался — никого! Один раз он шагах в тридцати заметил женщину такого же роста, одетую так же, как она. Он догнал ее — то была не она! Пробило пять часов! Половина шестого, шесть! Зажигали газ. Г-жа Арну не пришла.
Минувшей ночью ей приснилось, что она давно уже стоит на тротуаре улицы Тронше. То, чего она ждала здесь, было нечто неопределенное, однако значительное, и, сама не зная почему, она боялась быть замеченной. Но какая-то проклятая собачонка, озлясь на нее, хватала ее зубами за подол. Собачонка все кидалась и лаяла все громче. Г-жа Арну проснулась. Лай продолжался. Она прислушалась. Звук доносился из детской. Она бросилась туда босиком. Это кашлял ребенок. Руки у него были в огне, лицо красное, а голос до странности хриплый. Дыхание ребенка с каждой минутой становилось труднее. Склонившись над ним, она до самого утра не спускала с него глаз.
В восемь часов барабан национальной гвардии возвестил г-ну Арну, что товарищи его ждут. Он живо оделся и ушел, пообещав сразу же зайти к их врачу, г-ну Коло. В десять часов г-на Коло все еще не было, и г-жа Арну послала за ним горничную. Доктор оказался в отъезде, в деревне, а молодой человек, заменявший его, уже ушел навещать больных.
Голова Эжена, лежавшая на подушке, свесилась на сторону, брови были нахмурены, ноздри раздувались; его жалкое личико было бледнее простыни, а из горла с каждым вздохом вырывался свист, все более короткий, сухой, как бы металлический. Его кашель напоминал лай, какой издают игрушечные картонные собаки, у которых внутри действует грубая машинка.
Госпожой Арну овладел ужас. Она бросилась к звонкам, звала на помощь, кричала:
— Доктора! Доктора!
Через десять минут явился пожилой господин в белом галстуке, с седыми, хорошо подстриженными бакенбардами. Он задал множество вопросов о привычках, возрасте и характере юного пациента, осмотрел ему горло, приложил ухо к спине и прописал рецепт. Спокойствие этого человека вызывало отвращение. Он напоминал бальзамировщика. Ей хотелось его избить. Он сказал, что зайдет вечером.
Страшные приступы кашля вскоре возобновились. По временам ребенок вдруг приподымался. От судороги грудные мышцы напрягались, и когда он вдыхал воздух, живот втягивался, как при быстром беге. Потом он снова падал назад, запрокинув голову, широко раскрыв рот. Г-жа Арну с бесконечными предосторожностями пыталась заставить его проглотить содержимое склянок — сироп ипекакуаны, керметизованную микстуру. Но он отталкивал ложку и слабым голосом стонал. Казалось, что он пытается выдохнуть какие-то слова.
Время от времени она перечитывала рецепт. Примечания к нему пугали ее — в аптеке, может быть, ошиблись.
Собственное бессилие приводило ее в отчаяние. Явился помощник г-на Коло.
Это был молодой человек, новичок, державшийся скромно и не утаивший своего впечатления. Боясь сделать какую-нибудь оплошность, он не знал, на что решиться, и наконец прописал лед. Его долго не могли достать. Пузырь с кусочками льда лопнул. Ребенку пришлось поменять рубашку. Вся эта передряга вызвала новый приступ кашля, еще более страшный.
Ребенок старался разорвать воротник рубашки, как будто хотел убрать то, что его душило; он царапал стену, хватался за полог кроватки, ища точки опоры, чтобы вздохнуть. У него посипело лицо и все тельце, мокрое от холодного пота, словно похудело. Его растерянные, полные ужаса глаза уставились на мать. Он обхватил руками ее шею, судорожно повис на ней, а она, подавляя рыдания, шептала ему нежные слова:
— Да, любовь моя, ангел мой, сокровище мое!..
Потом он затих.
Она принесла игрушки, полишинеля, картинки, разложила все это на одеяле, чтобы развлечь его. Она пробовала даже петь.
Она запела песню, которой когда-то убаюкивала его, запеленав на этом самом креслице, покрытом ковром. Но вдруг по всему его телу пробежала дрожь, точно волна, которую гонит ветер; глаза выступили из орбит; она решила, что он умирает, и отвернулась, чтобы не видеть.
Через минуту она пересилила себя и взглянула. Он был еще жив. Часы шли за часами, тяжелые, угрюмые, бесконечные, и каждая минута была для нее минутой агонии. Кашель, от которого сотрясалась грудь ребенка, подбрасывал его, словно затем, чтобы разбить; наконец его вырвало чем-то странным, похожим на пергаментный сверток. Что бы это было? Она вообразила, что это кусок кишки. Но он дышал теперь свободно и ровно. Это кажущееся улучшение испугало ее больше, чем все остальное; она стояла, словно окаменев, свесив руки, неподвижно глядя в одну точку; тут появился г-н Коло. Ребенок, по его словам, был спасен.
Она сперва даже не поняла и заставила повторить себе эту фразу. Не были ли это просто слова утешения, принятые у врачей? Но доктор ушел вполне успокоенный. Тогда ею овладело такое чувство, как будто веревки, стягивавшие ей сердце, развязались.
— Спасен?! Неужели?!
Внезапно мелькнула мысль о Фредерике, отчетливая и безжалостная. То было предостережение свыше. Но господь в своем милосердии не захотел покарать ее навеки! Если бы она не отказалась от этой любви, какое наказание ждало ее в будущем! Наверное, ее сына оскорбляли бы из-за нее, и г-жа Арну представила его себе юношей, раненным на поединке, лежащим на носилках, при смерти. Она бросилась к низкому стулу и, упав на колени, вложив в молитву всю силу, устремясь всей душою к небесам, принесла в жертву богу свою первую страсть, свою единственную слабость.
Фредерик вернулся домой. Он сидел в кресле, даже не имея сил проклинать ее. Им овладела какая-то дремота; сквозь кошмар он слышал шум дождя, и ему казалось, что он все еще стоит там, на тротуаре.
На следующее утро, в последний раз поддавшись малодушию, он снова отправил к г-же Арну посыльного.
То ли он не исполнил как следует поручения Фредерика, то ли ей надо было сказать так много, что не хватило бы слов, — но Фредерик получил тот же ответ. Вызов был слишком дерзким! В нем заговорили и гордость и гнев. Он поклялся, что будет подавлять в себе всякое вожделение, и вот, как листок, подхваченный бурей, исчезла его любовь. Он ощутил облегчение, стоическую радость, потом — жажду деятельности, бурной, кипучей, и пошел без цели бродить по улицам.
Жители предместий проходили с ружьями, старыми саблями, некоторые были в красных колпаках, и все распевали «Марсельезу» или «Жирондистов».[186] На каждом шагу попадался национальный гвардеец, спешивший в свою мэрию. Вдали звучал барабан. Сражались у ворот Сен-Мартен. В воздухе была какая-то бодрость и воинственность. Фредерик шел дальше. Волнение великого города веселило его.
Проходя мимо Фраскати, он увидел окна Капитанши; дикая мысль пришла ему в голову, проснулась молодость. Он перешел бульвар.
Запирали ворота, а Дельфина, горничная, углем писала на них: «Оружие сдано».
— Ах, с барыней что творится! Нынче утром она прогнала своего грума, он ей надерзил. Ей кажется, что всех будут грабить! Она умирает со страху! И ведь барин уехал!
— Какой барин?
— Князь!
Фредерик пошел в будуар. Капитанша появилась в нижней юбке, с распущенными волосами, вне себя.
— О, благодарю! Ты спасаешь меня! Это уже второй раз! И никогда не требуешь награды!
— Прошу извинить! — сказал Фредерик, обвив ее стан обеими руками.
— Что такое? Что ты делаешь?.. — пробормотала Капитанша, удивленная и вместе обрадованная таким обращением.
Он ответил:
— Следую политической моде, ввожу реформу.
Не сопротивляясь ему, она упала на диван; он осыпал ее поцелуями, она продолжала смеяться.
Остаток дня они провели у окна, глядя на улицу, полную народа. Потом он повез ее обедать к «Трем провансальским братьям». Обед был длинный, изысканный. Домой пошли пешком, за отсутствием экипажей.
Весть о смене министерства изменила облик Парижа. Все радовались; появились гуляющие; а от фонариков, которые зажглись в каждом этаже, было светло, как днем. В казармы возвращались солдаты, измученные, унылые. Их приветствовали криками: «Да здравствует армия!» Они, не отвечая, продолжали путь. Напротив, офицеры национальной гвардии, красные от восторга, размахивали саблями и орали: «Да здравствует реформа!» — и слова эти каждый раз вызывали у влюбленных смех. Фредерик шутил, был очень весел.
На бульвары они вышли по улице Дюфо. Венецианские фонарики на фасадах тянулись огненными гирляндами. Внизу толпа смутно копошилась; местами в сумраке светлыми бликами посверкивали штыки. Стоял гул. Толпа была слишком густая, вернуться прямым путем было невозможно; и они уже сворачивали на улицу Комартена, как вдруг за их спиной раздался треск, точно разрывали огромный кусок шелковой материи. То была пальба на бульваре Капуцинок.