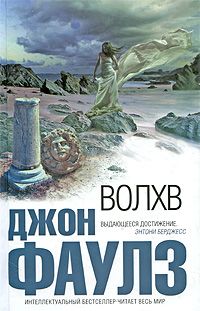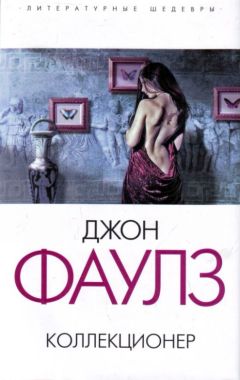Джон Фаулз - Волхв
— Напишите. Буду ждать с нетерпением. Спускаясь по лестнице, я разглядывал его флотскую стрижку. Я начал понимать, почему Кончис выбрал именно его. Возьмите миллион молодых американцев с высшим образованием, извлеките из них общее, и вы получите нечто вроде Бриггса. Конечно, грустно, что вездесущие американцы добираются до самых сокровенных уголков Европы. Но имя у него гораздо более английское, чем у меня. И потом, на острове уже есть Джо, трудолюбивая доктор Маркус. Мы вышли на улицу.
— Последние напутствия?
— Да нет, пожалуй. Просто добрые пожелания.
— Что ж…
Мы еще раз пожали друг другу руки.
— Все будет хорошо.
— Вы правда так считаете?
— Приготовьтесь, кое-что вам покажется странным.
— Я готов. Вы не думайте, у меня широкие взгляды. Я ничего не стану отвергать. Спасибо вам.
Я медленно улыбнулся; хотелось, чтобы он запомнил эту улыбку, что красноречивее слов, на которые я не смог отважиться. Он вскинул руку, повернулся. Через несколько шагов посмотрел на часы, перешел на бег; и я затеплил в сердце свечку во здравие Леверье.
75
Она опоздала на десять минут; скорым шагом приблизилась к почтовому киоску, где я ждал ее; на лице — вежливая, извиняющаяся улыбка досады.
— Простите. Такси еле ползло.
Я пожал ее протянутую руку. Для женщины, у которой за плечами полвека, она удивительно хорошо сохранилась; одета с тонким вкусом — в то хмурое утро посегители музея Виктории и Альберта рядом с ней казались тусклее, чем были на самом деле; с вызывающе непокрытой головой, в бело-сером костюме, подчеркивавшем загар и ясные глаза.
— И как мне могло прийти в голову назначить вам встречу именно здесь! Вы не сердитесь?
— Нисколько.
— Я тут купила блюдо XVIII века. А здесь прекрасные эксперты. Это не отнимет много времени.
В музее она себя чувствовала как дома; направилась прямо к лифтам. Пришлось ждать. Она улыбалась; родственная улыбка; взыскующая того, к чему я еще не считал себя подготовленным. Намереваясь лавировать меж ее мягкостью и своей твердостью, я запасся дюжиной подходящих фраз, но ее быстрые шаги и чувство, что я отнимаю ее драгоценное время, все обратили в прах.
— В четверг я виделся с Джоном Бриггсом, — сказал я.
— Как интересно. Я с ним не знакома. — Мы как будто нового дьякона обсуждали. Приехал лифт, мы вошли в кабину.
— Я все ему рассказал. Все, что ждет его в Бурани.
— Мы предполагали, что вы это сделаете. Потому и послали его к вам.
Оба мы слабо улыбались; напряженное молчание.
— Мог ведь и правда рассказать.
— Да. — Лифт остановился. Мы очутились на мебельной экспозиции. — Да. Могли.
— А если это была просто проверка?
— Проверять вас ни к чему.
— Вы так убеждены в этом?
Взглянула на меня в упор — так же она смотрела, протягивая второй экземпляр письма Невинсона. Мы уткнулись в дверь с надписью «Отдел керамики». Она нажала кнопку звонка.
— По-моему, мы начали не на той ноте, — сказал я. Она опустила глаза.
— Пожалуй. Попытаемся еще раз? Подождите минутку, будьте добры.
Дверь открылась, ее впустили. Все — в спешке, все скомкано, некогда передохнуть, хотя, войдя, она оглянулась почти виновато; словно боялась, что я сбегу.
Через две минуты она вернулась.
— Удачно?
— Да, я не прогадала. Вау.
— Значит, вы не во всем полагаетесь на интуицию? Задорный взгляд.
— Если б я знала, где находится отдел молодых людей…
— То нацепили бы на меня бирку и поставили в витрину? Она снова улыбнулась и окинула взглядом зал.
— Вообще-то я не люблю музеи. Особенно — устаревших ценностей. — Двинулась вперед. — Они говорят, тут выставлено похожее блюдо. Вот сюда.
Мы попали в длинный безлюдный коридор, уставленный фарфором. Я начал подозревать, что вся сцена отрепетирована: она без колебаний подошла к одной из витрин. Вынула блюдо из корзинки и медленно, держа его перед собой, зашагала вдоль рядов посуды, пока не углядела за чашками и кувшинами почти такое же, белое с голубым. Я подошел к ней.
— Вот оно.
Сличив блюда, она небрежно завернула свое в папиросную бумагу и, застав меня врасплох, протянула мне.
— Это вам.
— Но…
— Прошу вас. — Моя чуть ли не оскорбленная мина ее не смутила. — Его купили мы с Алисон. — Поправилась. — Алисон была со мной, когда я его покупала.
Мягко всучила блюдо мне. Растерявшись, я развернул его и уставился на наивный рисунок — китаец с женой и двумя детишками, вечные кухонные окаменелости. Я почему-то вспомнил крестьян на палубе, зыбь, ночной ветер.
— А я думала, вы научились обращаться с хрупкими предметами. Гораздо ценнее, чем этот.
Я не отрывал взгляд от синих фигурок.
— Из-за этого я и хотел встретиться с вами. Мы посмотрели друг другу в глаза; и я впервые почувствовал, что меня не просто оценивают.
— А не выпить ли нам чаю?
— Ну, — сказала она, — из-за чего вы хотели со мной встретиться?
Мы нашли свободный столик в углу; нас обслужили.
— Из-за Алисон.
— Я ведь объяснила. — Она подняла чайник. — Все зависит от нее.
— И от вас.
— Нет. От меня — ни в малейшей степени.
— Она в Лондоне?
— Я обещала ей не говорить вам, где она.
— Послушайте, г-жа де Сейтас, мне кажется… — но я прикусил язык. Она разливала чай, бросив меня на произвол судьбы. — Что ей, черт побери, еще нужно? Что я должен сделать?
— Не слишком крепко?
Я недовольно покачал головой, глядя в чашку, которую она мне протянула. Она добавила себе молока, передала мне молочник. Улыбнулась уголками губ:
— Злость редко кого красит.
Я хотел было отмахнуться от ее слов, как неделю назад хотел стряхнуть ее руку; но понял, что, помимо неявной издевки, в них содержится прямой намек на то, что мир мы воспринимаем по-разному. В ее фразе таилось нечто материнское; напоминание, что, ополчаясь против ее уверенности, я тем самым ополчаюсь против собственного недомыслия; против ее вежливости — против собственного хамства, Я опустил глаза.
— У меня просто нет сил больше ждать.
— Не ждите; ей меньше хлопот.
Я глотнул чаю. Она невозмутимо намазывала медом поджаренный хлебец.
— Называйте меня Николасом, — сказал я. Рука ее дрогнула, затем продолжала размазывать мед — возможно, вкладывая в это символический смысл. — Теперь я послушен своей епитимье?
— Да, если искренни.
— Столь же искренен, как были искренни вы, когда предложили мне помощь.
— Ходили вы в Сомерсет-хаус?
— Ходил.
Отложила нож, взглянула на меня.
— Ждите столько, сколько захочет Алисон. Не думаю, что ждать придется долго. Приблизить вас к ней — не в моей власти. Дело теперь в вас двоих. Надеюсь, она простит вас. Но не слишком на это уповайте. Вам еще предстоит вернуть ее любовь.
— Как и ей — мою.
— Возможно. Разбирайтесь сами. — Повертела хлебец в руках; улыбнулась. — Игра в бога окончена.
— Что окончено?
— Игра в бога. — В ее глазах одновременно сверкнули лукавство и горечь. — Ведь бога нет, и это не игра.
Она принялась за хлебец, а я обвел взглядом обыденный, деловитый буфет. Резкий звон ножей, гул будничных разговоров вдруг показались мне не более уместными, чем какой-нибудь щебет ласточек.
— Так вот как вы это называете!
— Для простоты.
— Уважай я себя вот на столечко, встал бы и ушел.
— А я рассчитывала, что вы поможете мне поймать такси. Нужно прикупить Бенджи кое-что к школе.
— Деметра в универмаге?
— А что? Ей бы там понравилось. Габардиновые пальто, кроссовки.
— А на вопросы отвечать ей нравится?
— Смотря на какие.
— Вы так и не собираетесь открыть мне ваши настоящие цели?
— Уже открыли.
— Сплошная ложь.
— А если иного способа говорить правду у нас просто нет? — Но, будто устав иронизировать, она потупилась и быстро добавила: — Я как-то задала Морису примерно тот же вопрос, и он сказал: «Получить ответ — все равно, что умереть».
На лице ее появилось новое выражение. Не то чтобы упорное; непроницаемое.
— А для меня задавать вопросы — это все равно, что жить. — Я подождал, но она не ответила. — Ну ладно. Я не ценил Алисон. Хамло, скотина, все что хотите. Так ваше грандиозное представление было затеяно лишь для того, чтобы доказать мне, что я ничтожество, конченый человек?
— Вы когда-нибудь задумывались, зачем природе понадобилось создавать столько разнообразных форм живого? Это ведь тоже кажется излишеством.
— Морис говорил то же самое. Я понимаю, что вы имеете в виду, но как-то смутно, отвлеченно.
— А ну-ка, послушаем, что вы понимаете.
— Что в наших несовершенствах, в том, что мы друг от друга отличаемся, должен быть какой-то высший смысл.