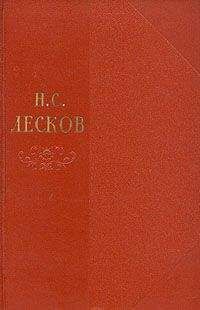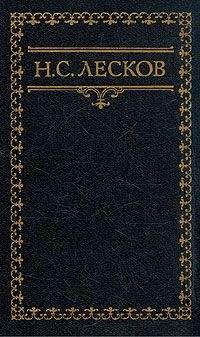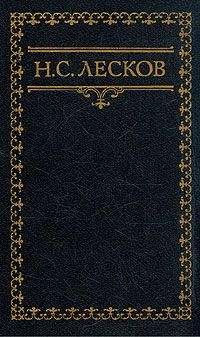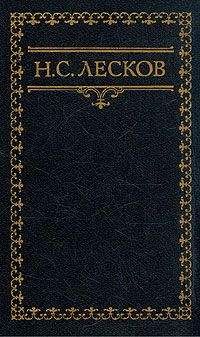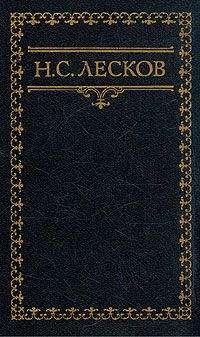Николай Лесков - Некуда
– Надо подать объявление в квартал, – говорил Белоярцев. – Мы в таком положении, что должны себя от всего ограждать, – а Бертольди кипятилась, что не надо подавать объявления.
– Наше социальное положение, – доказывала она, – не позволяет нам за чем бы то ни было обращаться к содействию правительственной полиции.
– Но помилуйте, – если у вас шубу украдут, к кому же вы обратитесь? – обрезонивал ее Белоярцев.
Бертольди затруднялась и лепетала только:
– Это другое дело! то совсем другое дело, да и то об этом про всякий случай надо рассудить: можем ли мы, при нашей социальной задаче, иметь какие-нибудь отношения к полиции.
Это казусное обстоятельство, однако, осталось неразрешенным, и объявление о пропаже Лизы не было подано в течение пяти дней, потому что все эти пять дней Белоярцев был оживлен самою горячечною деятельностью. Он имел счастливый случай встретить на улице гонимую судьбою Ольгу Александровну Розанову, узнал, что она свободна, но не знает, что делать, сообразил, что Ольга Александровна баба шаломонная, которую при известной бессовестности можно вертеть куда хочешь, и приобрел в ее лице нового члена для Дома Согласия. Четвертый день он устроивал ее комнату, прибивал вешалки, установлял мебель, импровизировал экран к камину и даже перенес из своей комнаты ширмы. Вообще, Белоярцев ухаживал за Ольгой Александровной самым внимательным образом, всячески стараясь при каждом удобном случае затушевать самою густою краскою ее отсутствующего мужа. Ему было очень приятно, что он мог теперь злить Розанова и заливать ему сала за кожу.
Гражданкам не понравилась Ольга Александровна. Бертольди сказала, что это фаля нетленная, а прочих Ольга Александровна изумляла своею с первого шага худо скрываемою обидчивостью и поразительнейшим невежеством. В первый же день своего прибытия, при разговоре об опере «Юдифь», она спросила: в самом ли деле было такое происшествие или это фантазия? и с тех пор не уставала утешать серьезно начитанных гражданок самыми непостижимыми вопросами. Утром на пятый день своей гражданской жизни Ольге Александровне стало уж очень грустно и непереносно. Она ушла помолиться в Казанский собор, поплакала перед образом Богоматери, переходя через улицу, видела мужа, пролетевшего на своих шведочках с молодою миловидною Полинькою, расплакалась еще больше и, возвратившись совершенно разбитая домой, провалялась до вечера в неутешных слезах, а вечером вышла веселая, сияющая и разражающаяся почти на всякое даже собственное слово непристойно громким хохотом. К ночи с ней сделалась истерика, и Белоярцев начал за ней ухаживать.
– Однако наша Юдифь, кажется, начинает кокетничать, – заговорила Бертольди.
– Со злости, – замечала Ступина.
– Да, это бывает, – подсказала Каверина. – Рок милосерд к Белоярцеву, про его долю не забывается.
– Да, – проговорила, потянувшись на кресле, Ступина. – Это вот только, как говорят у нас на Украйне: «do naszego brzega nie plynie nic dobrego»,[83] – и пошла в свою холодную комнату.
В девятый день Лизиного исчезновения из Петербурга, часа в четыре пополудни, Евгения Петровна сидела и шила за столом в своей угольной спальне. Против нее тоже с работою в руках сидела Полинька Калистратова. Николая Степановича Вязмитинова не было дома: он, переговорив с своим начальством, снова отправился в командировку; девушка растапливала печи в кабинете, зале и гостиной; няни и мамки не было дома. Пользуясь хорошею зарею, вырвавшеюся среди то холодной, то гнилой зимы, Евгения Петровна послала их поносить по воздуху детей.
Бледно-румяная заря узкою полоскою обрезала небосклон столицы и, рефлективно отражаясь сквозь двойные стекла окон, уныло-таинственно трепетала на стене темнеющей комнаты.
Евгения Петровна с Полинькой бросили иглы и, откинувшись в кресла, молча смотрели друг на друга.
– Мне, конечно, – произнесла, вздохнув, Полинька, – я в него верю и все перенесу: назад уж возвращаться поздно, да и… я думаю, что… он сам меня не бросит.
– Ни за что, – подтвердила Евгения Петровна.
– Да, – спокойнее ответила Полинька, как будто нуждавшаяся в этом подтверждении, – но за что же она его-то мучит?
Евгения Петровна промолчала.
– И ничего нельзя поделать! Некуда уйти, некуда скрыться! – высказывала свою мысль Полинька.
– Неприятное положение, – отвечала Женни и в то же мгновение, оглянувшись на растворенную дверь детской; вскрикнула, как вскрикивают дети, когда страшно замаскированный человек захватывает их в уголке, из которого некуда вырваться.
– Что ты! что ты! – останавливала ее Полинька и, взглянув по тому же направлению, сама вскрикнула.
В облитой бледно-розовым полусветом, полусумраком детской, как привидение, сложив руки на груди, стояла Лиза в своем черном капоре и черной атласной шубке, с обрывком какого-то шарфа на шее. Она стояла молча и не шевелясь.
– Лиза! – окликнула ее, оправляясь, Евгения Петровна.
Она разняла руки и в ответ поманила ее к себе пальцем.
Обе женщины разом вошли в детскую и взяли гостью за руки.
Руки Лизы были холодны как лед; лицо ее, как говорят, осунулось и теперь скорее совсем напоминало лицо матери Агнии, чем личико Лизы; беспорядочно подоткнутая в нескольких местах юбка ее платья была мокра снизу и смерзлась, а теплые бархатные сапоги выглядывали из-под обитых юбок как две промерзлые редьки.
– Не кричите так, не кричите, – прошептала Лиза.
– Ты напугала нас.
– Глупо пугаться: ничего нет страшного, – отвечала она по-прежнему все шепотом. – Пошли скорей нанять мне тут где-нибудь комнату, возле тебя чтобы, – просила она Женни.
– Да зачем же это сейчас? – уговаривала ее хозяйка. – Я одна, мужа нет, оставайся; дай я тебя раздену.
Лиза ни за что не хотела остаться у Евгении Петровны.
– Пойми ты, – говорила она ей на ухо, – что я никого, решительно никого, кроме тебя, не могу видеть.
Послали девушку посмотреть комнату, которая отдавалась от жильцов по задней лестнице. Комната была светлая, большая, хорошо меблированная и перегороженная прочно уставленными ширмами красного дерева. Лиза велела взять ее и послала за своими вещами.
– Завтра же еще это можно будет сделать, – говорила ей Евгения Петровна.
– Нет, пожалуйста, позволь сегодня. Я хочу все сегодня кончить, – говорила она, давая девушке ключи и деньги на расходы.
Вошла, возвратившись с прогулки, Абрамовна, обхватила Лизину голову, заплакала и вдруг откинулась.
– Седые волосы! – воскликнула она в ужасе.
Женни нагнулась к голове Лизы и увидела, что половина ее волос белые.
Евгения Петровна отделила прядь наполовину седых волос Лизы и перевесила их через свою ладонь у нее перед глазами. Лиза забрала пальцем эти волосы и небрежно откинула их за ухо.
– Где ты была? – спрашивала ее Евгения Петровна.
– После, – отвечала Лиза.
Только когда Евгения Петровна одевала ее за драпировкою в свое белье и теплый шлафрок, Лиза долго смотрела на огонь лампады, лицо ее стало как будто розоветь, оживляться, и она прошептала:
– Я видела, как он умер.
– Ты видела Райнера? – спросила Женни.
– Видела.
– Ты была при его казни!
Лиза молча кивнула в знак согласия головою.
В доме шептались, как при опасном больном. Няня обряжала нанятую для Лизаветы Егоровны комнату; сама Лиза молча лежала на кровати Евгении Петровны. У нее был лихорадочный озноб.
Через два или три часа привезли вещи Лизы, и еще через час она перешла в свою новую комнату, где все было установлено в порядке и в печке весело потрескивали сухие еловые дрова.
Озноб Лизы не прекращался, несмотря на высокую температуру усердно натопленной комнаты, два теплые одеяла и несколько стаканов выпитого ею бузинного настоя.
Послали за Розановым.
Лизавета Егоровна встретила его улыбкой и довольно крепко сжала его руку.
– Лихорадка, – сказал Розанов, – простудились?
– Верно, – отвечала Лиза.
– Далеко ездили? – спросил Розанов.
Лиза кивнула утвердительно головою.
– В одной своей городской шубке, – подсказала Евгения Петровна.
– Гм! – произнес Розанов, написал рецепт и велел приготовить теплую ванну.
К полуночи озноб неожиданно сменился жестоким жаром, Лиза начала покашливать, и к утру у нее появилась мокрота, окрашенная алым кровяным цветом.
Розанов бросился за Лобачевским.
В восьмом часу утра они явились вместе. Лобачевский внимательно осмотрел больную, выслушал ее грудь, взял опять Лизу за пульс и, смотря на секундную стрелку своих часов, произнес:
– Pneumonia, quae occupat magnam partem dextri etapecem pulmoni sinistri, complicate irritatione systemae nervorum. – Pulsus filiformis.[84]
– Mea opinione, – отвечал на том же мертвом языке Розанов, – quod hic est indicatio ad methodi medendi anti-flogistica; hirudines medicinales numeros triginta et nitrum.[85]
– Prognosis lactalis, – еще ниже заговорил Лобачевский. – Consolationis gratia possumus proscribere amygdalini grana quatuor in emulsione amygdalarum dulcium uncias quatuor, – et nihil magis![86]