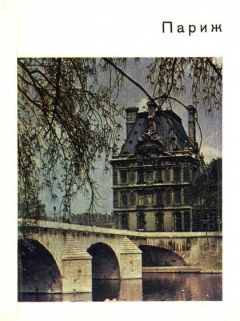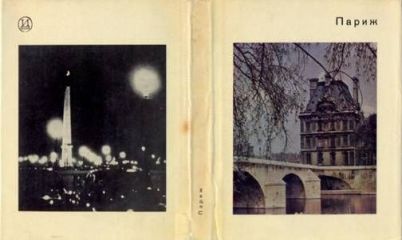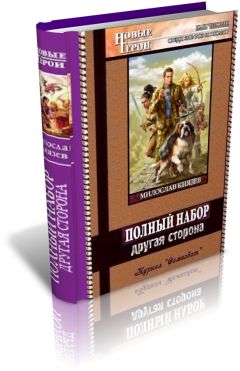Андре Моруа - Бернар Кене
«Что я говорю? — думал Антуан. — Что я говорю? И с чего это началось?»
Но он не мог удержать своих слов. Наконец правда ясно предстала перед ними: они ненавидели друг друга, у них ничего больше не было общего. Они замолчали.
Антуан болезненно провел рукою по лбу и сказал:
— У меня чересчур болит голова; я пойду немного пройдусь, мне необходим воздух.
Он вышел; дождя уже не было. Огромное звездное небо покрывало уснувшие виллы. Вероятно, было очень поздно. Одно только казино блестело тысячью огней. Антуан повернулся к нему спиной и пошел прямо к морю. Оно поднималось с медленным нежным волнением. Пляж был совершенно пустынен. Он лег на песок. Вдали, в сторону Гавра, вращался маяк. Он начал считать секунды: «Раз, два, три, четыре, пять — свет… Раз, два, три, четыре, пять — свет». Этот ритм немного его успокоил; затем, когда он растянулся навзничь, ему показалось, что он погружается в звезды. Он начал их перечислять. «Малая Медведица, Полярная… Эта… похожая на стул, я забыл ее название… Как мерцают Плеяды! Как все это прекрасно!» Тишина его успокаивала, также и необъятность неба и моря, их бесстрастие. Будто был перед ним гигантский товарищ, нежный и немой.
— Но посмотрим, — сказал он себе, — что же такое случилось? С чего это началось? Все это настоящее ребячество. Какой-то нелепый сон. Я нежно люблю Франсуазу.
Он вспомнил ее маленькие привычки, ее любовь к цветам и к старинным тканям, прелестное ее выражение, когда она смотрела на детей… «Все, — думал он, — я люблю в ней все, даже ее сторону Паскаль-Буше, как сказал бы Бернар. И больше всего, может быть, именно это. Я благодарен ей, что она другая, чем я… Но тогда сегодня вечером?.. Когда я приехал в семь часов, она была как всегда… Это потом… во время этого обеда».
Он закрыл глаза и стал вспоминать. Шум надвигающейся волны был как ласка.
«Нет, все это гораздо раньше; она отдаляется от меня вот уже два года — и по моей вине. Когда я женился на ней, она восхищалась мной; я являлся для нее силой — во-первых, эти мои рассказы про войну, затем оттого, что я шел наперекор своей семье, чтобы жениться на ней… Вот… Я дал ей надежду на очень большую героическую любовь. Но ничего этого не вышло — из-за Кене. Как только я среди них, на фабрике, сразу я сломлен, бессилен. Перед дедом мужества у меня нет, да и перед Бернаром, когда он говорит со мной известным образом. Некоторые женщины требуют, чтобы им приносили огромный дар; я же мог дать Франсуазе лишь чересчур малое… Я это почувствовал и не посмел с ней об этом говорить, я совсем ушел в чтение, механику… А, однако же, я готов умереть за нее… Да конечно… Нужно…»
Он поднялся и быстро зашагал по песку по направлению к вилле.
«Все это переменится… Но как я мог думать, что фабрика, Ахилл — что это более значительно для меня, нежели небо, море и особенно она?.. Ведь это правда, я был безумен».
Подходя к дому он пустился бегом. Одно освещенное окно было открыто; он увидел склоненную Франсуазу.
— Это ты? — спросила она.
Она была испугана.
Когда он ушел ночью, после этой сцены, ей стали приходить в голову нелепые мысли, возможность самоубийства, смерть, и она также нашла нежного товарища-гиганта, ставящего все по своим местам. Разве она была так уж права? Ведь она могла себя упрекнуть в некотором кокетстве! С этим Жаном-Филиппом всю неделю, до приезда Антуана, она была, конечно, чересчур уж интимна. Она хорошо знала, что еще несколько дней — и он сделался бы очень предприимчив. Да уже вчера, за фортепиано, его руки… В это время Антуан работал в Пон-де-Лере, он работал для нее, для детей. В сущности, она очень его любила. Он научил ее всему, что она теперь сколько-нибудь основательно и серьезно знала. Он был очень добрый, очень простой; если бы она могла только его оторвать от влияния деда, он был бы совсем замечательный. Бедный Антуан! Какое страдание она ему причинила!
Она снова легла; когда он вернулся, он молча стал на колени у ее кровати, взял ее руку и с жаром ее поцеловал. Тогда она немного приподнялась и левой рукой начала тихо ласкать его волосы. Он понял, что был прощен.
— Ты скажешь, чего бы тебе хотелось. Мы будем жить, как ты захочешь.
— Да нет же, — сказала она, — я ничего не хочу. Если это может доставить тебе удовольствие, я завтра же уеду из Довилля.
— Нет! Что за мысль! Наоборот, оставайся на все лето; я буду чаще приезжать. Дед будет на меня кричать… Ну и пускай!
Она улыбнулась.
— Я люблю, когда ты такой; я прошу у тебя только одного: попробуй быть больше моим, чем их.
— Попробую, — сказал Антуан и поцеловал ее. Под розовым шелком рубашки она была теплой и покорной.
Они проснулись на рассвете, так как окно осталось открытым. Погода была чудесная. На горизонте небо и море сливались в серебристом тумане. Ахилл собирался приехать сюда на воскресенье. Сладость негодования притягивала его в эти скандальные места. Антуан сказал Франсуазе: «Если тебе это скучно, я займусь с ним сам. Ты можешь оставаться с твоей сестрой». Она запротестовала: «Нет, нет, нисколько! Наоборот, будет очень забавно видеть Ахилла на Потиньере!»
Он приехал в одиннадцать часов в сопровождении Бернара. Море было серого, грифельно-голубиного цвета, на небе проходили розоватые облака; желтые, коралловые и ярко красные платья резко выделялись на бледном песке. Ахилл отказался сесть. Сзади него чей-то голос весело закричал:
— Месье Кене, к вашим услугам!
Обернувшись, он увидел молодого человека, с грациозно откинутыми назад волосами; рубашка его была очень глубоко открыта и виднелась гладкая грудь. Мысль, что это андрогенное существо пытается показать, что оно его знает, исполнило его сильного гнева. Он бросил в ответ мрачный и удивленный взгляд. Но декольтированное создание не смутилось, так как это был Жан Ванекем.
Он занимал здесь виллу, всю утопающую в герани, там обретался целый гарем машинисток. Оттуда он рассылал по всему свету распоряжения о своих победоносных закупках.
Он назвал себя, и Ахилл с неудовольствием протянул ему палец и ворчливо с ним поздоровался.
— А ну-ка, месье Кене, — очень вольно сказал атлет, — как вы думаете, поднимается ведь?
— Не очень-то на это рассчитывайте, — проворчал Ахилл, — баранья мать не умерла. Все это лопнет скорее, чем вы думаете.
— Вы шутите, — отозвался тот с сожалением. — Я приеду повидаться с вами на днях в Пон-де-Лер. Я хочу предложить вам одно великолепное дело… Бумажная фабрика в Ко-Ко-Ну… Предприятие в центре Африки… Рабочая сила задаром и материал из первобытных лесов… До скорого свидания и мой привет кузену Лекурбу.
Между двумя красивыми девушками, дополняющими одна другую — блондинка в лиловом свитере, брюнетка в желтоватом, — Ванекем удалился, эластично шагая по доскам.
— Что это? — спросила удивленная Франсуаза.
— Это? — отвечал Ахилл с презрением. — Это мой самый большой дебет, который уходит с выпяченной вперед грудью.
Он стоял в своей черной альпаговой куртке, блестевшей на солнце, и саркастически смотрел на играющих в теннис в их белых фланелевых костюмах, на купальщиц в трико, груди которых выделялись под упругой материей, и на все блестящее движение этой ненужной толпы. Франсуаза подумала, что он был похож на старого колдуна, которого все эти безумцы забыли пригласить и который одним жестом обратит их всех в жаб.
XIX
У Антуана вошло в привычку возвращаться в Пон-де-Лер только в понедельник. Жизнь фабрики стала ему казаться какой-то отдаленной и однообразной. Он был подобен человеку, долго имевшему перед глазами увеличительные стекла и внезапно их отбросившему: предметы отдаляются от него и принимают свою настоящую величину. «Как, — думал он, — только-то и всего?» И он уже принимался мечтать о следующем воскресенье. Он вновь обретал ощущение своей молодости, того времени, когда для него — для солдата — дни проходили в ожидании отпуска. Считалось тогда только одно воскресенье. Так и теперь: ежедневная корреспонденция, обход мастерских, покупка шерсти, — все становилось простыми упражнениями, обязательными, скучными и бесцельными, как бесцельно фехтование для работы штыком. А его настоящая жизнь была целиком в тех нескольких часах, когда он уезжал к Франсуазе.
В конце июля, когда он выходил однажды с фабрики вместе с Бернаром, какой-то маклер по скупке шерсти крикнул им издалека:
— В Лондоне падает!
Так шесть лет назад какой-то их друг, открыв «Le Temps», сказал им довольно равнодушно: «Вот оно что, убили наследного эрцгерцога Австрии!»
Как раз в это время стремительное увлечение закупками достигло наивысшей своей точки, и спекулянты, зарвавшиеся в этой игре, не видели целых гор той шерсти, что скопились за океанами в Аргентине, в Австралии и готовы были обрушиться на Европу.
Понижение в Лондоне было весьма слабое, едва заметный изгиб на поднимающейся кривой цен; но рынки уже были перегружены, и многие пали духом; это было как пылинка в пересыщенном растворе. Негоцианты, чересчур много закупавшие, при первом же толчке перепугались и приостановили заказы. Лекурб принял их очень гордо: «У нас всегда будет больше чем надо заказчиков». Но поветрие быстро распространялось, эпидемия стала опасной. Газеты объявляли о возвращении к довоенным ценам. Потребители были как бы в заговоре против алчности производителей. Носить изношенную куртку, вывернуть наизнанку истрепавшееся пальто — это сделалось как бы признаком добродетели. Богатые выскочки тоже перестали тратить — из снобизма. Подруга Ванекема, Лилиан Фонтэн, написала Бернару Кене: «Не можете ли вы мне прислать габардина цвета беж? Я хочу себе сделать домашнее платьице». Всюду обнаруживались новые запасы, они выходили на свет как крысы перед наводнением. Наступила Анверская ярмарка. Там цены полетели вниз с большой быстротой.