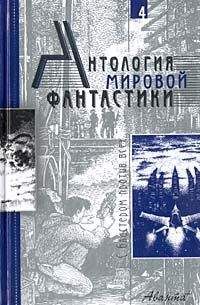Петер Альтенберг - Венские этюды
Так сидел он и смотрел на грядку тюльпанов — невероятно белых, невероятно красных, невероятно пылающих в утреннем сиянии. И о счастливых толстых голландцах думал он, которые могли отдавать свою любовь и дружбу, неясность и заботы луковицам тюльпанов!
Благие клапаны для накопившихся паров души: луковицы тюльпанов, мопсы, канарейки, политика, литература, почтовые марки, монеты, велосипеды, открытые письма с картинками, пчеловодство и покер.
Только не женщины — не это единственно настоящее, сущее — женщины! Это настоящее надо уничтожить! В этом одном нет самообмана! Это неподдельно, от этого не спасешься! Все другие ощущения служат нашему безумию — только женская любовь господствует над ним… Здесь замирает наша улыбка над самим собой и над тем, что для нас свято, и мы стоим сраженные суровой истиной нашей страсти! В этом одном нет самообмана! Это неподдельно, от этого не спасешься…
Все эти отрывочные, маленькие мысли облегчали его, они дробили эту сплошную враждебную массу: «женщина», «Сесилия», сверлили в ней философские бреши, и она рассыпалась.
Потом он пошел в цветочный магазин и послал ей букет тюльпанов, которые дарили красоту без всяких осложнений.
Вечером она сказала ему: — Тюльпаны! — Опять глупость придумали! Ну, какой смысл в тюльпанах?
— В тюльпанах тот смысл, — отвечал он, — что им можно свернуть головы и не попасть за это под суд.
БРАТ И СЕСТРА
Больная сестра лежала в постели. Ей было 19 лет, она была прекрасна. На ней была белая ночная рубашка с бледно-голубой вышивкой.
— Ты боишься поцеловать меня, боишься заразиться, — сказала она брату.
Он поцеловал ее и сел на постель.
На столике в стакане стояла бледно-розовая пышная роза.
Рядом лежал том Тургенева: «Вешние воды». На внутренней стороне переплета написано было стихотворение: «Зеленый шум, весенний шум»…
— Альберт принес книгу и розу, — сказала сестра, — отдал и сейчас же ушел.
О стихотворении она ничего не сказала.
Да и что было говорить?!
Где был «весенний шум»?!
А Альберт ночей не спал и все думал о ней.
Он чувствовал «весенний шум»…
Он готов был и нужду, и невзгоды переносить ради нее.
Сестра обратилась к брату: — Петр, послушай, как странно! В сновидениях, в дневных сновидениях — мне часто грезится, что вот — кто-то, когда-то придет и будет со мною; таков Альберт. Он — воплотившаяся греза моя, и только… Лишь греза о том, чего нет, и не будет. Будто видишь изображение горного пейзажа. И затоскуешь о настоящем…
Он заботлив и предупредителен как мать, — а, между тем, он мужнина, — он чужой. И это странно, непонятно! И если бы к этому прибавить еще что-то, то это было бы настоящее счастье!..
Он сидит со мною и говорит: — Не устала ли ты вышивать?.. Какие канвовые иголки лучше? Сколько сортов шелку?! Тебе не следовало бы перед сном умываться холодной водой, — это разгоняет сон… Пьешь ли ты за завтраком чай? Не пей крепкого чаю, — благодаря Богу, тебе еще не нужно возбуждающих средств. Завтра я пришлю тебе каталог художественной галереи. Обрати особенное внимание на легенды о Богоматери Стахевича. Так разговаривает он со мной. Все его интересует. А как он нежен и ласков…
Раз, как-то за ужином, он говорит: — «Ты ведь любишь суп с рисом?! Отчего вы не заказываете супа с рисом, раз она его любит?! Жизнь не так уж весела, а такие маленькие радости». Вот как он балует меня. Будто вокруг меня одной все вертится?! Но это не портит меня; наоборот, я чувствую, что делаюсь лучше от его ласки. Так хорошо, когда тебя балуют немножко. — Закрываешь глаза и говоришь: «еще!» — как попугай, когда ему почесывают, головку. Он книги, цветы приносит мне и по целым часам сидит со мною. Я чувствую, он очень меня любит. Ну, а дальше что же?!
Он — только мечта моя, принявшая образ…
Он только тоску увеличивает о том, чего нет и не будет… А между тем! В первый раз в жизни я увидала глубину и нежность мужской души, я почувствовала сразу, что от меня зависит и счастье и горе другого, что этот другой поистине любит меня всем сердцем и привязан ко мне, как дитя к своей няне. И неужели я скажу ему: «уйди»! — и исцелю его?! Он уйдет, он послушается меня, — он уйдет. — А потом?! А потом я буду ждать, и ждать, и ждать…
Брат взял ее руку и поцеловал ее.
— Послушай, — сказала, сестра, — Рикетта тебя любит?!
А брат возразил: — Я для нее воплотившаяся мечта того, чего нет и не будет… Поэтому иногда она говорит мне: — «Уйди», а иногда: «останься»!
И долго еще брат и сестра сидели вместе.
Он держал ее горячую ручку.
Чувствовался аромат бледно-розовой, пышной розы.
Они переживали моменты, так редко встречающиеся в жизни, — моменты полного взаимного понимания двух душ.
ИЗ ХРОНИКИ ПРОИСШЕСТВИЙ
Он прочел, сидя в кафе, следующую заметку в газетной хронике от 21-го ноября:
Загадочное исчезновение. Молодая девушка, портрет которой прилагаем, 15-летняя Анна Г., дочь железнодорожного служащего, отправившись в минувшее воскресенье на урок музыки, не явилась туда и с тех пор исчезла бесследно. Приметы ее: рыжеватые волосы, карие глаза, худенькая, несложившаяся фигура Глубоко огорченные родители и пр. и пр.
В душе его начала пробуждаться горячая любовь к этой девочке. Она превратилась в его глазах в «загнанную газель», он уже видел ее «потухающий взгляд»… Вообще, она соответствовала его идеалу. Во-первых, у нее были «золотистые волосы» (он позволил себе превратить «рыжеватые» в золотистые), карие глаза (их он оставил без изменения), тонкая, несложившаяся фигура. А во-вторых, — про нее неизвестно ничего больше, кроме того, что у нее золотистые волосы, карие глаза и что она исчезла, исчезла неизвестно куда!.
Благодаря этому его фантазия могла… Но ведь она, правда, была восхитительна по приложенному портрету. И такая молодая… и пропавшая…
Любовь его к ней все росла. Женщине, которая принадлежала ему в «реальной жизни», он мог сказать:
«Ну, уж ты…» или «прошу тебя, не раздражай меня!» или «ну, хорошо, хорошо! довольно! замолчи!..»
Но перед этой исчезнувшей он бы упал на колени, снял бы с нее мокрые башмаки и чулки, отнес бы бедную на свою кровать, закрыл бы потеплее с головой, растопил бы печь пожарче, напоил бы ее чаем и сидел бы, сидел, сторожил, оберегал ее. Или сказал бы ей, как молодой священник: «Анна!» Или бы он… нет! этого бы он не сделал!
«Легкого поведения девица — voilà tot»,[18] — сказал кто-то в кафе.
Он чувствовал, что над ним станут смеяться, если он вступится за нее. Но его возмутили эти слова, и он бы охотно сказал:
«Милостивый государь… А золотистые волосы!..» Да, таковы аргументы у любви.
Он все думал о первом слове, с которым соблазнитель обратился к ней: «Послушайте, моя красавица!..» Да, он наверно так начал… И целая жизнь была раздавлена, как муха под ударом хлопушки.
Он так представлял себе это: она идет, медленно переступая своими длинными стройными ножками, ее золотые волны заплетены в косу, она несет в своей детской душе весь механизм жизни.
Ровно в 12 часов урок музыки, ровно в час что-нибудь другое, ровно в 2, в 7, в 8… И вдруг кто-то производит во всем страшный переворот, сказав: «Послушайте, моя красавица…» Весь порядок часов и дня нарушен, и душа превращается в живой организм Этим все сказано. Она пробуждается, начинает дышать, жить независимой жизнью.
Но разве этот пошлый соблазнитель понимал все это? Он просто подумал: «Она мне нравится — я ее возьму».
— Я не могу, — сказала она, — у меня ровно в 12 урок музыки.
«Ну, в час, ну… потом…», — сказал искуситель, — «ну придите непременно!»
Попросту — новое деление времени, новый план жизненных занятий!
Ровно в 9 лежит она в своей постельке, и ей снится: «Кто-то сказал мне сегодня: моя красавица! и еще другие вещи…»
Кто-то? Мужчина сказал это, мужская сила, весь мир мужской… Мир мужчины преклонился перед миром женщины… «Минотавр» мужчина проглотил девушку…
А ей снилось: «Ровно в 12…» Ах, этот пошлый соблазнитель! Кто он был? Наверно, un roué…[19]
Молодой человек, сидящий в кафе, любил ее всей душой, поэтому он и думал «un roué». Это слово облегчало его не только потому, что оно было французское и звучало так красноречиво. Но он уже видел себя как бы спасающим ее из «бездны человеческого разврата»… Как строго и с какой грустью в то же время он бы сказал: «Анна!» если б… но это одна мечта!..
Впрочем, отчего и не мечтать?
Да, одно это слово «Анна!» должно было произвести второй страшный переворот, заново установить распределение времени, направить душу на новое, более чистое, раз уж она была — увы, слишком рано — грубо пробуждена из детского сна…