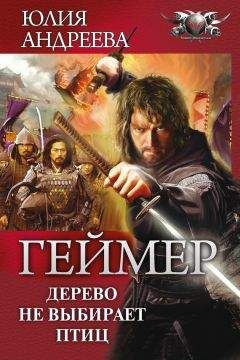Анатолий Мариенгоф - Бритый человек
Туча проглотила месяц. Я возвращался домой. Сначала лесом, в котором было душно, как в комнате больного, уставленной микстурами, каплями, пилюлями и притираниями. Потом спящими улицами и черными переулками. Они у нас в Пензе перепутаны, как линии на ладони. Я шел, будто гадая свою судьбу: то по линии смерти, то по линии жизни, то по линии любви. Спотыкался на бугорках, по случайности не названных в честь богинь — Минервы или Венеры.
Я был последователем Пифагора, Цезаря, Суллы, Агриппы из Неттесгейма и Преториуса. Я знал, что в книге Иова сказано: «На руку всякого человека он налагает печать для вразумления всех людей, сотворенных им».
ДЕСЯТАЯ ГЛАВА
Теперь все ясно. Хиромантией заниматься бессмысленно.
2
Я сижу в ванне и слышу через тонкую стенку, как хохочет моя жена. У меня мутнеют глаза. Я открываю кран, ошпариваю себя кипятком, засовываю голову в мыльную пенящуюся воду.
Моя жена хохочет, как рыжий в цирке. Я затыкаю уши красной резиновой губкой, вгрызаюсь зубами в мыло.
3
Она встречает меня улыбкой:
— Ну, бубочка, хорошо выкупался?
— Прекрасно.
— С легким, паром, Мишка.
— Спасибо, Лео.
— А почему у тебя, бубочка, такая красная рожа?
— Я принял чересчур горячую ванну.
— С твоим сердцем, бубочка, это чистое сумасшествие.
— Зачем ты волнуешь свою жену?
— Он всегда меня волнует. Он ужасная дрянь.
4
Лео бреется перед зеркалом моей бритвой. Нина вышивает гладью целующихся голубков. Раздается четыре звонка.
— Это к нам. Бубочка, отопри.
Я только что растянулся на диване. Какое наслаждение после ванны полежать минут двадцать, не шевельнув пальцем. Но она меня пытает, — в ее распоряжении шотландский сапог, сжимающийся винтом, нюрнбергский валик, вырезывающий кожу полосками, богемские тиски для пальцев, дыба, облюбованная Малютой: когда в жаркий день я останавливаюсь у будки, чтобы выпить стакан ледяного нарзана, она говорит: «Миша, оставь мне глоточек», и я оставляю ей этот глоточек, хотя именно его мне и не хватает, чтобы утолить жажду. Я хочу эту каплю ледяной влаги как бессмертия. Но я не сопротивляюсь: пусть пьет, все равно моя жизнь загублена, все равно она целый день поет романсы, перевирая слова, мотивы. Я умоляю: «Ниночка, ради всего святого: „ночь, платформа, огоньки, дальняя дорога“. „Знаю, знаю, не учи, пожалуйста.“ И тянет свое: „В семафоре огоньки, же-ле-е-езная дорога…“
Я открываю дверь. Входит Лидочка — лучшая подруга моей жены. Лидочка на девятом месяце. Тем не менее ступает она легко, как паук по своей трепещущей паутинке.
Лео, намыливая подбородок, философствует:
— Я нахожу, что природа отнеслась несправедливо к нам, к мужчинам. Право же, я предпочел бы раза два-три в жизни родить, чем каждый день бриться.
Моя жена обнимает подругу:
— Ты к кому, солнышко, записалась?
— К Пигеру.
— Миленькая, да ведь у него на прошлой неделе целых две роженицы Богу душу отдали. Впрочем, миленькая, везде роженицы или умирают или калечатся.
Лидочкины глаза тонут в слезах.
5
Почтовое отделение помещается в первом этаже углового дома из бурого кирпича. Некоторые окна в доме занавешены, некоторые голые. Те, что освещены и без занавесок, кажутся бесстыдными. В окнах стоят эмалированные кастрюли, глиняные горшки, прикрытые тарелками, банки с солеными огурцами, пивные бутылки с зелеными туберкулезными шеями, консервные коробки, ожерелья из луковиц, кактусы с обломанными пальцами (соком кактусов москвичи лечат мозоли) и еще какие то пыльные растения с бумажными розами. К форточным задвижкам привешены свертки. Из промокшей газетной бумаги выглядывают рыбьи хвосты и сырое мясо, выданное по карточкам на три дня.
Лео говорит:
— Расплодились. Сопят. Чешутся. Жуют. Переваривают. Возмутительно! Это мешает мне наслаждаться жизнью. Я люблю думать, что мир создан только для моего сопенья, переваривания, моих снов, моего насморка.
Мы поднимаемся по каменной лестнице, засеянной бандеролями, стянутыми с трубочек, конвертами на красной подкладке, вскрытыми, как рана; открытками, скомканными или разорванными.
Лео покупает десятикопеечную марку у девушки, свирепо разрисованной усами.
Над ее клеткой висит плакат:
КЛЕИТЕ МАРКУ В ПРАВОМ ВЕРХНЕМ УГЛУ. ОБЛЕГЧАЙТЕ РАБОТУ ПОЧТОВЫХ СЛУЖАЩИХ.
Мой друг присаживается к длинному столу, оклеенному черной клеенкой и окапанному фиолетовыми чернилами. Он пишет адрес круглыми буквами, располагающимися на бумаге как поссорившиеся супруги в кровати: «Минск. Октябрьская ул. II, Ядзе Пширыжецкой». (Лео все еще питает надежду освободиться от угрызений совести.)
Написав, переворачивает письмо и, оглянувшись по сторонам, наклеивает марку посередине конверта.
Он говорит:
— Каждый свергает советскую власть и борется с социалистическим строительством как умеет.
У меня является прекрасное желание кинуться в будку телефона-автомата и вызвать «ГПУ».
Если бы Лео на моих глазах заряжал адскую машину для взрыва Кремля, у меня не явилось бы такого желания: «Фи! Донос».
Смертна ли принавычившаяся в нас «мещанская мораль»?
Однако и в случае «с маркой» я не сделал того, что следовало. Позор! Мои резиновые губы растянулись в улыбку, почти одобрительную.
Нечто схожее происходит со мной во время писания докладов, рапортов, резолюций. Когда перо бежит без размысливаний, я никогда не грешу орфографической ошибкой; но стоит запнуться в слове, потереть лоб над буквой, и в самом простом случае я промахнусь с непростительностью дошкольника.
6
В обширном кресле с сигарой в зубах и с напильничком для ногтей в чересчур длинных пальцах Лео иногда разговаривал с глазу на глаз высокими и щеголеватыми фразами:
— Эта несносная революция, как железнодорожный вор, вторично крадет у снисходительной улицы ее многообещающих, как реклама, женщин, обласканных рыжими куницами, золотистыми соболями, вкрадчивыми кротами, непорочными горностаями и каракулями, курчавыми, как семиты; ее породистых мужчин — в белоснежных кашне, пенящихся над бобровыми воротниками, подобно взбитым сливкам в стаканах кофе; ее автомобили — нетерпеливые, как биржа; рестораны, величественные и молитвенные, как храмы, и храмы, шикарные, как кабаки; рысаков, более статных, чем гвардейские офицеры; витрины, ласкательно сияющие чужим счастьем; фоксов и булей — в барсовых ошейниках; фонари — в нимбах, как святые.
И он снял с сигары кольцо нежно, как с пальца женщины, принадлежащей другому.
Я вижу, что мой добрый знакомый увешан тючками, сверточками и кулечками. Мне еще ни разу не ответили трагическим анекдотом: «Дела? А вы знаете, Михаил Степанович, что такое г…? Ну так это — к о м п о т по сравнению с моими делами».
Я бегу от милиционерского поста.
Серые стены бывш. Благородного собрания оклеены туманом, тенями, золотыми бумажками фонарей и афишами горлопастыми: «Шпре-егарт. Шпреегарт. Шпреегарт».
На панели толпятся девушки с красными руками и юноши с такими глазами, что я недоумеваю, почему не пахнет палеными ресницами и горелым мясом.
Слова у моего друга красные, как руки девушек.
Я говорю себе: «Значит, он еще не выходит. Хорошо, если он меня заметит. Он тогда решит, что я был в Политехническом. Это его порадует. Ему кажется, что у меня от зависти болит живот. Я занимаю слишком большое место в его жизни. Если бы меня не существовало, он бы, наверное, был личным секретарем Саши Фрабера. Слава для него была бы безвкусна. Как щука по-жидовски без перца».
7
Я ищу глазами милиционера, чтобы справиться, как пройти в Спасско-Голенищевский переулок. Красная фуражка останавливает мой взгляд с властностью тревожного фонаря стрелочника, вкапывающего экспресс копытами в землю. Я подошел к милиционеру, когда его дребезжащий свисток ловил за подол старушку лунного цвета. Она совершила беззаконие, сойдя с задней площадки трамвая.
Милиционер получил с преступницы рубль и выдал ей голубенькую квитанцию. Старушка бережно спрятала ее в ридикюль 90-х годов. Она, должно быть, решила предъявить документ Господу Богу в день Страшного Суда.
Я спросил милиционерскую спину:
— Товарищ, как пройти в Спасско-Голенищевский?
Спина, сверкнув медными зрачками, важно ввернулась.
Будь в эту минуту на моем месте моя жена, она бы непременно занозисто воскликнула: «Жак! Голубчик! Неужели, роковулечка, это вы? Поручик? Гусар смерти? С черепом? С косточками? Ой, дорогушеч-ка, как к вам катастрофически не идет мильтонский колпак!»