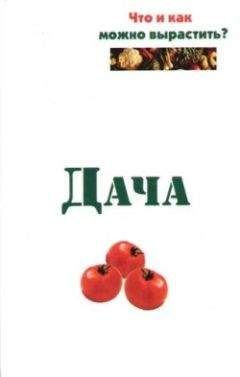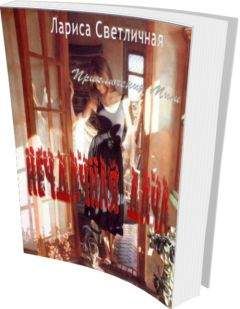Джованни Боккаччо - Декамерон
Уже солнце склонялось к вечеру и жар значительно спал, когда рассказы юных дам и трех юношей пришли к концу. Потому королева сказала шутливо: «Теперь, дорогие подруги, мне ничего не остается сделать в этот день моего правления, как только дать вам новую королеву, и пусть она по своему усмотрению устроит на следующий день свою и нашу жизнь в целях пристойного развлечения. Казалось бы, что дню еще далеко до ночи, но так как тот, кто не распорядится заблаговременно, не может устроить хорошо будущее, и затем, дабы можно было приготовить все, что новая королева найдет нужным назавтра, я решаю, чтобы следующие дни начинались с этого часа. Поэтому, во имя того, кем все живет, и в наше утешение пусть нашим царством руководит на следующий день юная и разумная Филомена». Так сказав и поднявшись, она сняла с себя лавровый венок и, почтительно возложив его на Филомену, первая преклонилась перед ней, как перед королевой, за нею все другие, равно как и юноши, предоставляя себя ее власти. Филомена, несколько покрасневшая от стыдливости, когда увидела себя венчанной на царство, вспомнила недавние речи Пампинеи и, чтобы не показаться простушкой, ободрившись, во-первых, утвердила в должностях всех назначенных Пампинеей, распорядилась тем, что следовало приготовить на следующее утро и к будущему ужину, на том же месте, где они пребывали, а затем начала держать такую речь: «Дорогие подруги, хотя Пампинея, более по своей любезности чем за мое достоинство назначила меня вашей королевой, я тем не менее не расположена в устроении нашего образа жизни следовать только моему мнению, но вместе с моим – и вашему; а для того, чтобы вы знали, что, по-моему, следует сделать, и могли бы впоследствии по вашему усмотрению прибавить что-либо или умалить, я намерена разъяснить вам это в нескольких словах. Если я хорошо пригляделась сегодня к распоряжениям Пампинеи, они показались мне в одно и то же время достойными хвалы и ведшими к удовольствию; поэтому, пока они, вследствие частого повторения или по другой причине, не прискучат, я не считаю нужным отменять их. Итак, распорядившись тем, что мы уже начали приводить в исполнение, встанем и, весело погуляв, когда солнце пойдет на закат, поужинаем на холодке, а там, после нескольких песенок и других развлечений, хорошо будет и пойти спать. Завтра, поднявшись пока прохладно, также пойдем повеселиться куда-нибудь, чем кому по нраву; и как сделали сегодня, вернемся в урочный час к обеду: попляшем и, встав от сна, как сегодня, вернемся сюда для рассказов, в которых, по моему мнению, и заключается наибольшее удовольствие, а в то же время и польза. Правда, я хочу начать нечто, чего Пампинея не могла сделать, будучи поздно избранной к правлению: хочу ограничить некоторым пределом то, о чем мы станем рассказывать, и объявлять вам о том наперед, дабы у каждого было время придумать какую-нибудь хорошенькую новеллу на данный сюжет. Если вам это приглянется, то он будет таков: так как с начала мира люди бывали увлекаемы разными случайностями судьбы и будут увлекаемы до конца, то пусть каждый расскажет о тех, кто после разных превратностей и сверх всякого ожидания достиг благополучной цели». Женщины и мужчины равно одобрили такой порядок и сказали, что будут ему следовать. Один лишь Дионео заявил, когда все остальные уже умолкли: «Мадонна, как все другие сказали, так скажу и я, что порядок, вами указанный, чрезвычайно хорош и достоин похвалы; но от вашей особой милости я прошу дара, который пусть будет утвержден за мной, пока будет состоять это общество; и дар этот следующий: чтобы это постановление не обязывало меня сказывать новеллу на данный сюжет, если я того не захочу, и я мог бы рассказать, какую мне заблагорассудится. А дабы никто не подумал, что я прошу этой милости, как человек, у которого рассказов нет в запасе, я готов быть всегда последним из сказывающих». Королева, знавшая его за забавного и веселого человека и отлично понявшая, что он просит того единственно с целью развеселить общество, если б оно устало от рассуждений, какой-нибудь смехотворной новеллой, весело и при общем согласии даровала ему эту милость. Поднявшись, все тихими шагами направились к потоку, светлые воды которого спускались с пригорка в долину, тенистую от множества деревьев, среди диких камней и зеленой травы. Здесь, разувшись и оголив руки и бродя в волнах, дамы затеяли промеж себя разные забавы. Когда приблизился час ужина, вернулись в палаццо, где поужинали с удовольствием. После ужина, когда принесли музыкальные инструменты, королева приказала завести танец, и чтобы вела его Лауретта, а Емилия спела канцону, сопровождаемая на лютне Дионео. Согласно этому приказу, Лауретта тотчас же начала и повела танец, а Емилия любовно запела следующую канцону:
Я от красы моей в таком очарованье,
Что мне другой любви не нужно никогда
И вряд ли явится найти ее желанье.
Когда смотрюсь в себя, я в прелестях моих
То благо нахожу, что дух наш услаждает,
И новый случай ли, мысль старая ль – но их,
Утех столь сладостных, ничто не прогоняет.
И в мире, знаю я, мой взор не повстречает
Такого чудного предмета никогда,
Чтоб в душу новое мне влил очарованье.
В какой бы час себя ни пожелала я
Утешить благом тем, – оно навстречу зова
Спешит немедленно, – и тут душа моя
Вся наслаждения исполнена такого,
Что выразить его ничье не может слово,
И не поймет его тот смертный никогда,
Кто сам не испытал того очарованья.
А я, которая сгораю тем сильней,
Чем более на нем свои покою взгляды, –
Вкушая уж теперь высокие услады,
Что мне сулит оно, – и в будущем отрады
Еще я большей жду, с какою никогда
Сравниться не могло б ничье очарованье.
Когда кончилась плясовая песня, которой все весело подпевали, хотя кое-кого она заставила и задуматься над ее словами, проплясали еще несколько мелких танцев. Уже прошла часть короткой ночи, и королеве угодно было положить конец первому дню; велев зажечь факелы, она приказала всем пойти отдохнуть до следующего утра, что все и сделали, вернувшись каждый в свой покой.
День второй
Кончен первый день Декамерона, начинается второй, в который, под руководством Филомены рассуждают о тех, кто после разных превратностей и сверх всякого ожидания достиг благополучной цели.
Уже солнце повсюду разлило своим светом новый день и птицы, распевая веселые песни на зеленых ветках, свидетельствовали о том во всеуслышание, когда дамы и трое юношей встали и пошли в сад, где, тихо ступая по росистой траве и плетя красивые венки из цветов, долгое время гуляли из одной стороны в другую. И как в прошедший день, так поступили и теперь закусив, пока еще было прохладно, и занявшись пляской, они пошли отдохнуть, затем, встав в девятом часу, отправились, по усмотрению королевы, на свежий лужок и расселись вокруг нее. Она, красивая и привлекательная, с лавровым венком на голове, постояв в раздумье и окинув взором все общество, приказала Неифиле положить начало будущим рассказам. Та, без всяких оговорок, весело начала так рассказывать.
Новелла первая
Мартеллино, притворясь калекой, делает вид, что излечен мощами святого Арриго; когда его обман обнаружен, его бьют и хватают, и он в опасности быть повешенным, но в конце спасается.
Часто случалось, дорогие дамы, что тот, кто пытался издеваться над другими, особливо над предметами, достойными уважения, оставался при своих шутках, иногда и к своему вреду. Вот почему, повинуясь велению королевы и дабы начать моей новеллой рассказы на поставленный ею вопрос, я намерена передать вам то, что приключилось с одним нашим согражданином, вначале несчастное, а потом, вне всякого его ожидания, и очень счастливое.
Недавно тому назад жил в Тревизо немец, по имени Арриго, который, будучи бедняком, носил тяжести по найму всем, кому требовалось; при всем том он считался человеком честным и святой жизни. По этой причине (правда ли, нет ли) случилось, что, когда он умер, в самый час его кончины, как утверждают тревизцы, все колокола главной церкви Тревизо, без чьего-либо прикосновения, принялись трезвонить. Приняв это за чудо, все стали говорить, что Арриго – святой, и когда народ со всего города сбежался к дому, где лежало его тело, понесли его, точно святые мощи, в главную церковь, куда стали приводить хромых, увечных, слепых и всех, пораженных какою-нибудь болезнью и недостатком, как будто всем надлежало исцелиться от одного прикосновения к этому телу.
Случилось, что во время этой суматохи и народного движения в Тревизо прибыло трое наших сограждан, из которых одного звали Стекки, второго Мартеллино, третьего Маркезе: люди, посещавшие дворы синьоров и потешавшие зрителей своими гримасами и необычным уменьем передразнивать всякого. Они, дотоле не бывавшие там никогда, удивились, увидя всех в суматохе, и, услышав тому причину, сами пожелали пойти и посмотреть. Оставили свои вещи в гостинице, а Маркезе и говорит: «Пойдем-ка поглядим на этого святого, только мне невдомек, как мы туда доберемся, ибо я слышал, что площадь полна немцев и другого вооруженного люда, которых туда поставил синьор этого города, чтобы не было беспорядков. Кроме того, и церковь, говорят, так набита народом, что никому больше не войти». Тогда Мартеллино, желавший на все это посмотреть, сказал: «За этим дело не станет, я уж найду средство добраться до святого тела». – «Каким образом?» – спросил Маркезе. Мартеллино отвечал: «Я расскажу тебе как: я прикинусь калекой, а ты с одной стороны, Стекки – с другой – пойдете, поддерживая меня, как будто я сам по себе не в состоянии идти, и представитесь, что хотите вести меня туда, дабы тот святой исцелил меня; не будет никого, кто бы, увидев нас, не уступил нам места и не дал пройти». Маркезе и Стекки одобрили этот способ; не мешкая долго, они вышли из гостиницы и отправились втроем в уединенное место, где Мартеллино так скривил себе кисти и пальцы, руки и ноги, а к тому же и рот, глаза и все лицо, что казался страшилищем, и не было никого, кто бы, увидев его, не признал в нем человека, в самом деле искалеченного и разбитого.