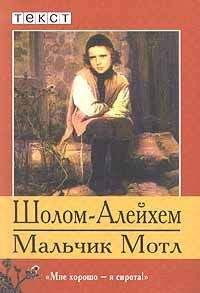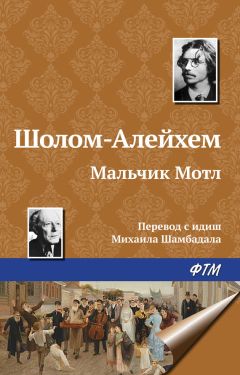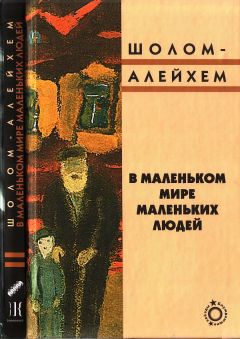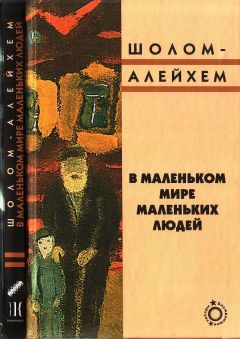Ромен Роллан - Кола Брюньон
Поэтому, зарисовывая украдкой рыльце Делаво, а заодно и кюре, который, разговаривая, хлопает крыльями, я слушаю и подпеваю их песенке, хорошо мне известной: «Какое счастье, боже в небеси, быть гражданином города Кламси!» Еще бы, как же иначе? Это хороший город. Город, создавший меня, не может быть плох. Человеческий куст в нем растет свеж и густ, жирен и мирен, без колючек, не злой, разве что на язычок, который у нас острехонек. А если и позлословишь про ближнего (каковой ответствует тем же), то от этого ему хуже не будет, а любишь его только крепче и не тронешь на нем ни волоска. Делаво напоминает нам (и мы гордимся, все, даже кюре) о спокойной иронии нашего Неверского края посреди безумств всей остальной страны, о том, как наш старшина Рагон отказался примкнуть к Гюизам, к лиге, к еретикам, к католикам, к Риму и Женеве, к бешеным псам и хищным рысям и как Варфоломеевская ночь умывала у нас свои окровавленные руки. Сплетясь вокруг нашего герцога, мы образовали островок здравого смысла, о который разбивались волны. Покойный герцог Людовик и блаженной памяти король Генрих, о них невозможно говорить без умиления! Как мы любили друг друга! Они были созданы для нас, мы были созданы для них.
У них были свои недостатки, разумеется, как и у нас. Но эти недостатки были человечны, они делали их ближе к нам, не такими далекими. Люди говорили посмеиваясь: «Герцог Неверский-позеса зверский!» или: «Год будет урожайным. Ребят будет вдоволь. Король нам еще одного подарил…» Ах, поели мы тогда весь наш белый хлеб! Потому мы и любим поговорить о тех временах. Делано, как и я, знавал герцога Людовика. Но короля Генриха видел я один и пользуюсь этим, и, не дожидаясь, пока меня попросят, я им рассказываю в сотый раз (для меня это всякий раз — первый, да и для них, надеюсь, если они добрые французы), как я его видел, серого короля, в серой шляпе, в сером платье (локти торчали из дыр), верхом на серой лошади, сероволосого и сероглазого, снаружи все серо, а золотое нутро…
К несчастью, письмоводитель господина нотариуса перебивает меня, чтобы сообщить ему, что умирает клиент и зовет его. Он должен идти, хоть и весьма сожалеет, — но все-таки сначала награждает нас историйкой, которую готовил уже целый час (я видел, что она вертится у него на языке, но раньше я вставил свою). Не стану спорить, его рассказец был хорош, я очень смеялся. По части побасенок Делаво бесподобен.
Прояснив таким образом ум и взгляд, освежившись и промывшись от глотки до пят, мы вышли все вместе. (Было, должно быть, без четверти пять или около пяти. За три каких-нибудь часа я подцепил, кроме двух хороших обедов и веселых воспоминаний, заказ на два баула, которые просил меня сделать нотариус.) Компания разбрелась, предварительно обмакнув сухарик в рюмку черносмородинной у Ратри, аптекаря. Тут Делаво досказал свою историйку и проводил нас, чтобы послушать еще одну, до Мирандолы, где мы расстались уже окончательно, учинив коротенькую стоянку лицом к стене, чтобы дать ход последним излияниям.
Так как возвращаться домой было слишком поздно и слишком рано, то я спустился в Вифлеем с неким угольщиком, который шел рядом со своей повозкой, трубя в рожок. Возле башни Лурдо навстречу мне попался тележник, который бежал, гоня перед собой колесо; и, когда оно замедляло ход, он подпрыгивал и подгонял его ногой. Словно человек, догоняющий колесо Фортуны; и как только он собирается на него вскочить, оно убегает. Я приметил этот образ, чтобы использовать.
Тем временем я раздумывал о том, как мне лучше возвратиться в мой дом, прямым или кружным путем, как вдруг увидел выходящую из Пантенора <Больница. — Р.Р.> процессию, возглавляемую крестом, который нес, подпирая его животом, словно копье, сорванец ростом с мою ногу, показывая язык второму служке и косясь на кончик своей священной палки. Следом четыре старика с красными и вздутыми руками несли, семеня ногами, усопшего, накрытого простыней, который отправлялся, под крылышком кюре, досыпать свой сон в сырой земле. Из вежливости проводил его и я до его жилья. Все-таки веселей, когда ты не один. Должен сознаться, что присоединился я отчасти, чтобы послушать вдову, которая, как водится, шла рядом со священником, вопя, повествуя о том, как покойник хворал, какие принимал лекарства и как помирал, излагая его достоинства повседневные, его качества телесные и душевные — словом, всю его жизнь и жизнь его благоверной. Ее элегия чередовалась с песнями кюре. Мы шли за ними следом, любопытствуя: ибо понятно само собой, что по пути к нам примыкали, чтобы посочувствовать, добрые души и, чтобы послушать, многие уши. Наконец, прибыв на место назначения, к гостинице тихого упокоения, его поставили в гробу у края разверстой ямы; а так как нищим строгий запрет деревянную рубашку уносить на тот свет (спать не хуже и нагишом), то, сняв простыню и крышку, его вытряхнули в дыру.
Бросив туда ком земли, чтобы заправить ему постель, и осенив его крестным знамением во ограждение от дурных снов, я удалился вполне удовлетворенный: все-то я видел, все-то я слышал, принял участие в радостях, принял участие в горестях; моя котомка была полна.
В обратный путь я двинулся берегом. Я рассчитывал, выйдя к слиянию рек, пойти вдоль Беврона прямо домой; но вечер был такой чудесный, что, сам того не заметив, я очутился за городом и направился вдоль чаровницы Ионны, которая завлекла меня до ущелья Ла Форе. Спокойная и гладкая вода струилась без единой складки на своем светлом платье; зрачки не могли оторваться, словно рыба, проглотившая крючок; и небо, подобно мне, было захвачено неводом реки; оно купалось в ней со всеми своими облаками, которые цеплялись, плывя, за травы, за камыши; и солнце омывало в воде свои золотые волосы. Я подсел к старику, который стерег, волоча ногу, двух тощих коров; я осведомился о его здоровье, посоветовал ему надевать на ногу чулок, набитый колючей крапивой (я на досуге занимаюсь врачеванием). Он рассказал мне свою жизнь, свои беды и печали, все это весело; видимо, обиделся, что я дал ему лет на пять меньше, чем ему было на самом деле (а было ему семьдесят пять); этим он гордился, ему льстило, что, прожив дольше других, он больше других претерпел. Ему казалось естественным, чтобы человек терпел, чтобы хорошие страдали вместе с плохими, потому что зато милость небесная расточается равномерно и на плохих и на хороших, таким образом, в конечном счете все одинаково, все хорошо; богатые и бедные, красивые и безобразные, все однажды мирно уснут в объятиях того же отца… И его думы, его голос, трескучий, как сверчки в траве, журчание плотины, запах дерева и дегтя, доносившийся с ветром от пристани, недвижно бегущая вода, красивые отсветы — все сочеталось и сливалось с вечерней тишиной.
Старик ушел, я двинулся домой один, не торопясь, разглядывая круги, вращавшиеся на воде, и заложив руки за спину. Я был настолько поглощен всеми образами, которые струились вдоль Беврона, что не замечал ни где я, ни куда иду; так что внезапно вздрогнул, услышав, как меня окликает с того берега хорошо знакомый голос. Я, сам того не заметив, оказался напротив собственного моего дома! Из окна моя нежная подруга, моя жена, показывала мне кулак. Я притворился, что не вижу ее никак, уставившись глазами в воду; и в то же время, потешаясь, наблюдал, как она неистовствует и машет руками, вниз головой, в зеркале реки. Я молчал; но животом своим смеялся, и живот у меня содрогался. Чем сильнее я хохотал, тем возмущеннее она ныряла в Беврон, и чем глубже она в него кувыркалась, тем сильнее я хохотал. Наконец, она яростно хлопнула окном и дверью и вылетела, как ураган, чтобы мной завладеть… Да, но ей надо было перейти реку. Слева? Справа? Мы были промеж двух мостов… Она выбрала пешеходные мостки, справа. А я, естественно, когда увидел, что ока направилась этим путем, двинулся противоположным и вернулся через большой мост, где одинокий Гаден, как цапля, все еще стоически торчал с утра.
Я был дома. Уже наступила ночь. И как это проходят дни? Я, слава богу, не похож на Тита, на этого римского бездельника, который вечно охал о потерянном времени. Я не теряю ничего, я своим днем доволен, я его зарабатываю. Но только мне бы нужно два дня, два дня каждый день; а то мне не хватает. Чуть я начинаю пить, как стакан уже и пуст; он с трещиной! Я знаю людей, которые прихлебывают себе и кончить не могут. Или, чего доброго, у них стакан больше моего? Вот уж это была бы вопиющая несправедливость! Эй ты там, шинкарь под вывеской Солнца, ты, который разливаешь дни, отпусти мне полную меру!.. Да нет, благословен ты, господи, судивший мне вставать из-за стола всякий раз несытым и до того любить день (ночь тоже хороша), что и ночи и дня мне всегда мало!.. Как ты бежишь, апрель! Уже ты и кончен, день! Ничего! Я вас вполне вкусил, вы были моими, в моих руках. И я целовал твои маленькие грудки, девчурка тоненькая, дочурка стройненькая весны… А теперь, ночь, здравствуй и ты! Я беру тебя. Всякой свой черед! Мы ляжем вместе… Ах, черт, ведь между нами ляжет еще одна… Вернулась старуха, моя жена…