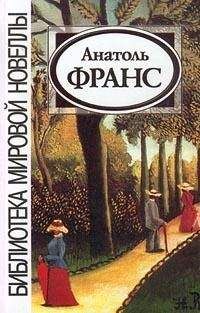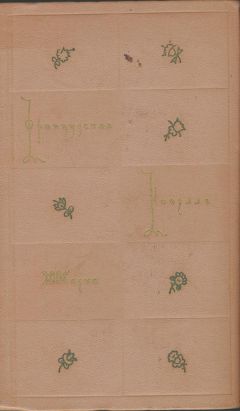Анатоль Франс - 5. Театральная история. Кренкебиль, Пютуа, Рике и много других полезных рассказов. Пьесы. На белом камне
Выслушав речь аббата Мирабеля, г-жа Дульс побежала в театр. Репетиция «Решетки» кончилась. Прадель был у себя в кабинете с двумя молодыми актрисами, которые просили его — одна об ангажементе, другая — об отпуске. Он отказал обеим, следуя своему принципу: сперва отказать и только потом согласиться. Это придавало цену его согласию на самую пустяшную просьбу. Маслеными глазами и бородой патриарха, своими повадками, одновременно сластолюбивыми и отеческими, он напоминал Лота, заигрывающего с двумя своими дочерьми[25], каким его изображали на эстампах старые мастера. Амфора из позолоченного картона, стоявшая тут же, дополняла иллюзию.
— Невозможно, — говорил он каждой из них, — право же, невозможно, детка моя… Ну, зайдите завтра, посмотрим.
Выпроводив их, он спросил, не отрываясь от бумаг, которые подписывал:
— Ну, госпожа Дульс, что нового?
Константен Марк, вошедший в эту минуту вместе с Нантейль, возбужденно перебил:
— А как же декорации, господин Прадель?
И он в двадцатый раз описал пейзаж, который должна изображать сцена при поднятии занавеса.
— На первом плане старый парк. Стволы высоких деревьев с северной стороны обросли зеленым мхом. Надо, чтобы чувствовалась влажная земля.
И директор ответил:
— Будьте покойны, мы сделаем все, что в наших силах, и все будет очень хорошо. Ну, так как же, госпожа Дульс? Что нового?
— Есть искорка надежды, — ответила она.
— В глубине в туманной дымке, — сказал автор, — серые каменные стены и шиферные крыши аббатства.
— Да, да, отлично. Присядьте же, госпожа Дульс. Я вас слушаю.
— У архиепископа меня приняли очень любезно, — сказала г-жа Дульс.
— Господин Прадель, необходимо, чтобы создалось впечатление, будто стены аббатства глухие, крепкие, и в то же время вечерний туман должен придавать им какую-то легкость. Бледно-золотистое небо…
— Господин аббат Мирабель, — начала г-жа Дульс, — священнослужитель чрезвычайно образованный…
— Господин Марк, вы настаиваете на этом самом бледно-золотистом небе? — спросил директор. — Говорите, госпожа Дульс, говорите, я слушаю…
— …и изысканно вежливый.
Он деликатно намекнул на нескромность газет…
В эту минуту в кабинет директора ворвался режиссер Маршеже. Его зеленые глаза метали молнии, а рыжие усы плясали, как языки пламени. Он быстро заговорил:
— Опять начинается!.. Лидия, — знаете, молоденькая статистка, — визжит на лестнице, как поросенок. Видите ли, Делаж хотел ее изнасиловать. За месяц она, пожалуй, уже в десятый раз эту канитель заводит. И как только не надоест!
— В таком театре, как наш, это недопустимо, — сказал Прадель. — Оштрафуйте Делажа… Госпожа Дульс, продолжайте, пожалуйста.
— Аббат Мирабель совершенно точно разъяснил мне, что самоубийство — акт отчаяния.
Но тут Константен Марк спросил Праделя, хорошенькая ли статистка Лидия.
— Вы видели ее в «Ночи на двадцать третье октября», она играет женщину из народа, которая покупает в предместье Гренель вафли у мадам Раво.
— Насколько я помню, это очень красивая девушка, — заметил Константен Марк.
— Бесспорно, — ответил Прадель. — Но она была бы еще красивей, если бы не ноги, они у нее как тумбы.
Константен Марк задумчиво рассуждал вслух:
— И Делаж ее изнасиловал… Он понимает толк в любви. Любовь — простой и примитивный акт. Это борьба, ненависть. Насилие в любви необходимо. Любовь по взаимному согласию скучная обязанность.
И он воскликнул в полном восхищении:
— Делаж гениален!
— Не увлекайтесь! — сказал Прадель. — Статисточка Лидия сама зазывает актеров к себе в уборную, а потом поднимает крик, что ее изнасиловали, и требует денег… Этому фокусу ее научил любовник, деньги идут ему… Итак, госпожа Дульс, вы говорили…
— После долгой и содержательной беседы, — снова принялась рассказывать г-жа Дульс, — аббат Мирабель намекнул на возможность благоприятного разрешения вопроса. Он дал мне понять, что все препятствия могут быть устранены, если врач засвидетельствует, что Шевалье был невменяем и, следовательно, не мог отвечать за свои поступки.
— Но Шевалье не был невменяем, — заметил Прадель. — Он был в здравом уме.
— Как мы можем это утверждать, — возразила г-жа Дульс. — Откуда нам знать?
— Нет, он не всегда был нормален, — сказала Нантейль.
Прадель пожал плечами:
— В конце концов возможно, что это и так. Нормальный или ненормальный все зависит от того, как на это посмотреть… У кого можно было бы попросить такую справку?
Госпожа Дульс и Прадель назвали трех докторов подряд; но они никак не могли отыскать адрес первого; у второго был плохой характер, а третий, как оказалось, умер.
Нантейль предложила обратиться к доктору Трюбле.
— Прекрасная мысль! — одобрил Прадель. — Давайте попросим справку у доктора Сократа… Какой сегодня день?.. Пятница. Это его приемный день. Он дома.
Доктор Трюбле жил в старом доме, в самом конце Сенской улицы. Прадель взял с собой Нантейль, решив, что Сократ не сможет отказать хорошенькой женщине. Константен Марк, для которого Париж без актеров был невыносим, увязался за ними. История с Шевалье начинала его занимать. Он находил, что это чисто театральная история — уж очень в ней много комедиантства. Хотя час приема окончился, в гостиной у доктора было еще полно больных, чающих исцеления. Трюбле быстро от них отделался и пригласил актеров к себе в кабинет. Он сидел за столом, заваленным книгами и бумагами. У окна нагло лезло в глаза старое гинекологическое кресло. Директор «Одеона» изложил цель своего визита и закончил так:
— Шевалье только в том случае будет похоронен по церковному обряду, если вы засвидетельствуете, что он был не совсем нормален.
Доктор Трюбле заявил, что Шевалье может отлично обойтись без церковной службы.
— Адриенна Лекуврер, до которой ему очень далеко, обошлась без церковного отпевания[26]. По мадемуазель Моним не служили заупокойной мессы, и, как вы знаете, ей было отказано «в чести истлевать на жалком кладбище по соседству со всеми проходимцами ее квартала». Ей от этого не было ни жарко, ни холодно.
— Вы знаете, доктор Сократ, — ответил Прадель, — актеры чрезвычайно религиозны. Для них будет большим огорчением, если они не смогут отслужить панихиду по своему товарищу. Они уже заручились согласием нескольких певцов, и музыка будет прекрасная.
— Вот это довод, — сказал Трюбле. — Тут ничего не возразишь. Шарль Монселе[27], человек остроумный, за несколько часов до смерти позаботился о музыке для своей заупокойной мессы. «Я хорош со многими оперными певцами, — сказал он. — У меня будет такой Pie Jesu[28], что пальчики оближешь». Но ежели в данном случае архиепископ не разрешает духовного концерта, придется его отложить до следующего раза.
— Что касается меня, — сказал директор, — я неверующий. Но я рассматриваю церковь и театр, как две великие социальные силы, и считаю очень важным, чтобы они были друзьями и союзницами. И лично я никогда не упускаю случая скрепить этот союз. Будущим постом я поручу Дюрвилю прочитать одну из проповедей Бурдалу[29]. Я получаю субсидию от государства: значит, я должен быть приверженцем конкордата[30]. И потом, что там ни говори, а католичество — самая приемлемая форма религиозного индифферентизма.
— Если уж вы так почитаете церковь, так чего же ради вы хотите силой или хитростью навязать ей покойника, от которого она открещивается? — спросил Константен Марк.
Доктор высказался в том же духе и в заключение прибавил:
— Послушайте, Прадель, бросьте вы хлопотать по этому делу.
Но тут вступилась Нантейль и, сверкая глазами, прошипела свистящим шепотом:
— Двери церкви должны быть открыты ему, доктор; удостоверьте то, о чем вас просят, напишите, что он был невменяем. Пожалуйста.
В своей просьбе Фелиси руководствовалась не только приверженностью к религии. Тут примешивалось и личное чувство и остатки смутных старых суеверий, о которых она сама не подозревала. Она надеялась, что, если гроб поставят в церковь и окропят святой водой, Шевалье умиротворится, станет добрым покойником и не будет ее больше мучить. И наоборот: она боялась, что если церковь откажет ему в благословении и молитвах, он, отвергнутый небом и озлобившийся, не даст ей покою. Попросту Фелиси страшилась, что он будет ей являться, и хотела, чтобы священники тоже приняли участие в его погребении, чтобы все приложили к этому руку, чтобы он был похоронен покрепче, попрочнее, окончательно и навсегда. Губы у Фелиси дрожали; она заломила сжатые руки.
Трюбле, изучивший человеческую природу, смотрел на нее с интересом. Он был великим знатоком и ценителем женщин. Фелиси восхищала его. Он смотрел на нее, и его курносое лицо сияло от удовольствия.