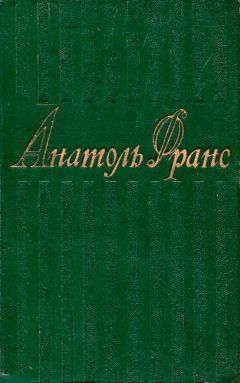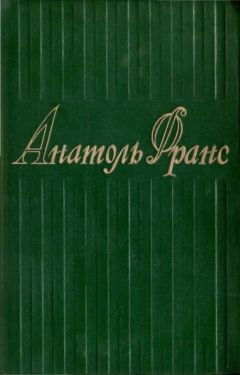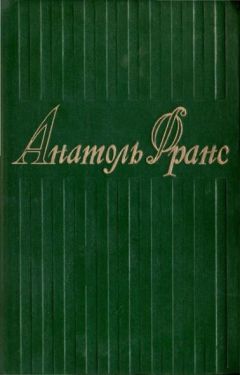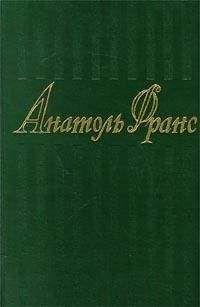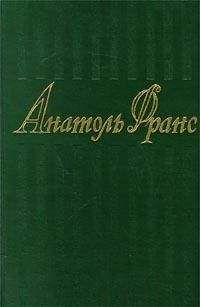Анатоль Франс - 2. Валтасар. Таис. Харчевня Королевы Гусиные Лапы. Суждения господина Жерома Куаньяра. Перламутровый ларец
— Я убежден, Понтий, — отвечал Ламия, — что ты обошелся с самаритянами со всей прямотой, свойственной твоей натуре, и единственно в интересах Рима. Но не слишком ли поддался ты на сей раз запальчивости, которая постоянно увлекает тебя? Ты помнишь, как часто случалось мне, еще в бытность нашу в Иудее, подавать тебе советы благоразумия и терпимости, хоть я был моложе тебя и, стало быть, горячее?
— Терпимость в отношении иудеев! — воскликнул Понтий Пилат. — Хоть ты и жил среди них, плохо ты знаешь этих врагов рода человеческого. Кичливые и вместе с тем подлые, они совмещают в себе постыдную трусость с непреодолимым упрямством и равно не заслуживают ни любви, ни ненависти. Я воспитан, Ламия, на принципах божественного Августа. Когда я был назначен прокуратором Иудеи, величие римского гения уже оказывало свое влияние на весь мир. Проконсулы не обогащались за счет провинций, как это бывало во времена гражданских смут. Я сознавал свой долг. Я вменил себе в закон действовать мудро и осторожно. Боги свидетели, я всегда старался избегать жестокостей. Но к чему привели мои благие намерения? Ты помнишь, Ламия: едва я вступил в управление Иудеей, вспыхнуло первое восстание. Нужно ли напоминать тебе, при каких обстоятельствах оно произошло? Гарнизон Кесарии переходил на зимние квартиры в Иерусалим. Легионеры несли знамена с изображением Цезаря. Жители Иерусалима, не признававшие божественности императора, сочли себя оскорбленными, словно повиноваться богу, если уж приходится повиноваться, менее достойно, нежели человеку! Иудейские первосвященники явились перед судилищем и с высокомерным смирением стали просить меня удалить знамена из священного города. Я отказал им в этой просьбе из уважения к божественной особе Цезаря и к величию Империи. Тогда плебс вкупе с первосвященниками окружил преторию с причитаниями и угрозами. Я приказал солдатам составить копья пирамидой перед башней Антонии и, вооружившись, как ликторы, фасцами[266], рассеять дерзкую толпу. Но иудеи словно не чувствовали ударов; они посылали мне проклятия, а самые неистовые из них легли на землю, вопя во все горло, и, казалось, готовы были умереть под розгами. Ты был свидетелем моего унижения, Ламия. По приказанию Вителлия я был вынужден отправить знамена обратно в Кесарию. Поистине, такой позор был мною не заслужен! Перед лицом бессмертных богов клянусь, что ни разу в бытность мою прокуратором Иудеи не преступил я закона и справедливости! Но я стар. Мои враги и клеветники мертвы. Я умру не отомщенным. Кто станет моим посмертным защитником?
Он вздохнул и умолк. Ламия отвечал:
— Туманное будущее не должно тревожить мудреца ни опасениями, ни надеждой. Не все ли равно, что будут люди думать о нас? Мы сами свидетели и судьи своих деяний. Сохрани, Понтий Пилат, уверенность в своей нравственной правоте. Удовольствуйся собственным самоуважением и уважением твоих друзей. К тому же нельзя управлять народами при помощи одной лишь гуманности. Человеколюбие, к которому взывают философы, не вяжется с обязанностями правителей.
— Отложим нашу беседу, — сказал Понтий. — Сернистые испарения Флегрейских полей действеннее, когда они исходят от земли, накаленной солнечными лучами. Я должен спешить. Прощай! Но раз счастливый случай свел меня с другом, я хочу этим воспользоваться. Элий Ламия, окажи мне честь отужинать завтра со мною. Мой дом находится на краю города, у самого берега моря, близ Мисены. Ты легко узнаешь его по живописи над портиком: там изображен Орфей в окружении львов и тигров, зачарованных звуками его лиры. Завтра свидимся, Ламия, — сказал он еще раз, уже всходя на носилки. — Завтра побеседуем об Иудее.
На следующий день Ламия в назначенный час пришел к Понтию Пилату. Всего два ложа ожидали сотрапезников. К столу, накрытому без излишней пышности, но достаточно богато, на серебряных блюдах были поданы смоква в меду, дрозды, лукринские устрицы и сицилийские миноги. За ужином Понтий и Ламия вели речь о своих недугах, пространно описывали их признаки и давали друг другу советы, как пользоваться рекомендованными им средствами. Из признательности к Байям, соединившим их, они наперебой превозносили красоту этого побережья и благотворное действие здешнего воздуха.
Ламия восхвалял прелести куртизанок, которые прохаживались по взморью, увешанные драгоценностями, волоча за собою покрывала, расшитые варварами. Но старый прокуратор порицал суетное тщеславие, из-за которого в обмен на каменья и паутину, сотканную человеческими руками, римское золото переходило к иноплеменникам и даже к врагам Империи. Затем речь зашла о широких строительных работах в стране; упомянут был мост, возведенный Гаем между Путеолами и Байями, и каналы, прорытые Августом, через которые воды Тирренского моря вливаются в Авернское и Лукринское озера.
— И у меня было намерение осуществить большие общественные работы, — сказал Понтий вздыхая. — Став, к своему несчастью, правителем Иудеи, я замыслил построить акведук протяжением в двести стадий, который мог бы в изобилии снабжать Иерусалим чистой водой. Высота уровней, масштабы модулей, уклоны медных водохранилищ, от которых должны были расходиться водоносные трубы, — все было мною предусмотрено, и я сам, с помощью механиков, выполнил чертежи. Я подготовил указ о порядке пользования водой, чтобы никто из граждан не мог брать ее больше, чем дозволено. Зодчие и рабочие были уже на месте. Я приказал приступить к работам. Но, вместо того чтобы возрадоваться закладке акведука, который должен был покоиться на мощных мостовых арках и вместе с водой внести в город оздоровление, жители Иерусалима подняли отчаянный вопль. Обвиняя меня в кощунстве, в осквернении святынь, они с криком набросились на работников и разметали камни фундамента. Встречал ли ты, Ламия, более гнусных варваров? Однако ж Вителлий принял их сторону, и я получил приказ прервать сооружение акведука.
— Большой еще вопрос, нужно ли делать добро людям вопреки их воле, — сказал Ламия.
Понтий Пилат, не слушая, продолжал:
— Отказаться от акведука! Какое безумие! Но все, что исходит от римлян, ненавистно иудеям. Мы для них существа нечистые, и уже одно наше присутствие внушает им отвращение. Ты знаешь, что они не решались войти в преторию из боязни оскверниться, и я вынужден был вершить суд под открытым небом, на мраморных плитах мостовой, по которой ты не раз прохаживался.
Они нас боятся и презирают. Но разве Римская империя — не мать и покровительница всех народов, которые, как дети, мирно почиют в лоне ее славы? Наши орлы разнесли по всей вселенной благовестие мира и свободы. Мы обращаемся с побежденными народами как с друзьями, не чиним им никаких притеснений, уважаем их обычаи и законы. Разве покорение Птоломеем Сирии, которую раздирали междоусобицы ее многочисленных правителей, не принесло этой стране успокоения и процветания? И хотя Рим мог бы ценить свои благодеяния на вес золота, однако ж он не посягнул на сокровища, от которых ломятся храмы иноплеменных! Не ограбил же он богиню-Матерь в Песинунте, Юпитера в Моримене и Киликии, иудейского бога в Иерусалиме! Антиохия, Пальмира, Апамея наслаждаются покоем, несмотря на свои богатства, и, уже не опасаясь набегов арабов из пустыни, воздвигают храмы во славу римского гения и в честь божественного Цезаря. Одни лишь иудеи ненавидят нас и держат себя с нами вызывающе. Налоги с них приходится взимать силою, и они упорно уклоняются от воинской службы.
— Иудеи цепко держатся за древние обычаи, — отвечал Ламия. — Они подозревали, и, разумеется, без всякого основания, что ты посягаешь на их законы и желаешь изменить их нравы. Позволь тебе сказать, Понтий, что твои действия не всегда способствовали тому, чтобы рассеять это злосчастное заблуждение. Тебе доставляло удовольствие, хотя ты и не отдавал себе в том отчета, возбуждать в иудеях беспокойство, и я наблюдал не раз, с каким явным презрением относился ты к их верованиям и религиозным обрядам. Раздражение их достигло высшей степени, когда ты приказал легионерам охранять в башне Антонии утварь храма и облачение первосвященника. Надо признать, что, хотя иудеи и не возвысились, как мы, до восприятия божественных истин, все же их религиозные таинства достойны уважения, хотя бы ради их древности. Понтий Пилат пожал плечами.
— Они не имеют ясного представления о природе богов, — сказал он. — Они поклоняются Юпитеру, но не дают ему имени и не облекают его в зримый образ. Не создают они и кумиров из камня, как иные азиатские народы. Им неизвестны Аполлон, Нептун, Марс, Плутон, ни одна из богинь. Порою мне кажется, что в древности они поклонялись Венере. Ибо и поныне иудейские женщины приносят на жертвенный алтарь голубей; и ты не хуже меня знаешь, что торговцы, устроившись под портиками храма, продают этих птиц попарно для жертвоприношений. Однажды мне сказали, что какой-то безумец, опрокинув клетки, изгнал торгующих из храма. Священники обратились с жалобой на святотатца. Я думаю, что обычай приносить в жертву двух горлиц установлен в честь Венеры. Чему ты смеешься, Ламия?