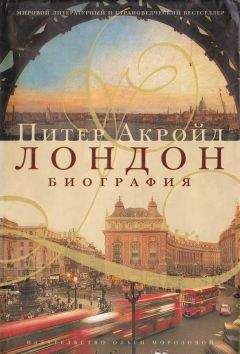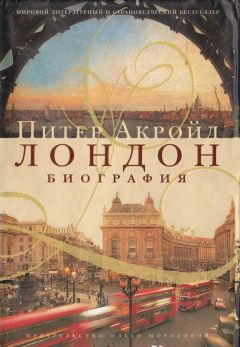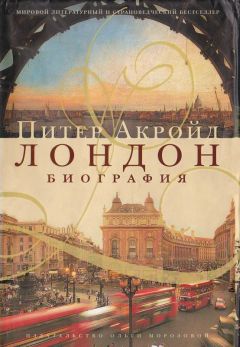Уильям Теккерей - Ярмарка тщеславия
Такое же мрачное предчувствие преследовало и лорда Стайна. Он пытался утопить в Красном море вина и веселья страшный призрак, стоявший у его ложа; иногда ему удавалось ускользнуть от него в толпе, потерять его в вихре удовольствий. Но стоило лорду Стайну остаться одному, как призрак возвращался, и с каждым годом он, казалось, становился неотвязнее.
«Я взял твоего сына, – говорил он. – Почему я не могу взять тебя? Я могу заключить тебя в тюрьму, как твоего сына Джорджа. Завтра же я могу прикоснуться к твоей голове – и тогда прощай все удовольствия и почести, пиры, красота, друзья, льстецы, французские повара, прекрасные лошади, дома, – вместо этого тебе дадут тюрьму, сторожа и соломенный тюфяк, как Джорджу Гонту». И тогда милорд бросал вызов грозившему ему призраку; ибо ему было известно средство, как обмануть врага.
Итак, роскошь и великолепие царили за резными порталами Гонт-Хауса с его закоптелыми коронами и вензелями, но счастья там не было. Здесь давались самые роскошные в Лондоне пиры, но удовольствие они доставляли только гостям, сидевшим за столом милорда. Если бы он не был таким знатным вельможей, очень немногие посещали бы его, но на Ярмарке Тщеславия снисходительно смотрят на грехи великих особ. Nous regardons à deux fois[280] (как говорила одна француженка), прежде чем осудить такую особу, как милорд. Некоторые записные критики и придирчивые моралисты бранили лорда Стайна, но, несмотря на это, всегда рады были явиться, когда он приглашал их.
– Лорд Стайн просто невозможен, – говорила леди Слингстон, – но все у него бывают, и я, конечно, послежу за моими девочками, чтобы с ними там ничего не случилось.
– Я обязан его милости всем в жизни, – говорил преподобный доктор Трэйл, думая о том, что архиепископ сильно сдал; а миссис Трэйл и ее юные дочери готовы были скорее пропустить службу в церкви, чем хотя бы один из вечеров его милости.
– У этого человека нет ничего святого, – говорил маленький лорд Саутдаун сестре, которая обратилась к нему с кротким увещанием, так как мать передавала ей страшные россказни о том, что творится в Гонт-Хаусе, – но у него, черт возьми, подается самое лучшее в Европе сухое силери.
Что касается сэра Питта Кроули, баронета, то сэру Питту, этому образцу порядочности, сэру Питту, который вел миссионерские собрания, ни на минуту не приходило в голову отказываться от посещений Гонт-Хауса.
– Там, где встречаешься с такими особами, как епископ Илингский и графиня Слингстон, там, будьте уверены, Джейн, – говорил баронет, – не может быть задета наша честь. Высокий ранг и положение лорда Стайна дают ему право властвовать над людьми нашего положения. Лорд-наместник графства – уважаемое лицо, дорогая моя. Кроме того, мы когда-то дружили с Джорджем Гонтом; я был первым, а он вторым атташе при пумперникельском посольстве.
Одним словом, все бывали у этого великого человека, – все, кого он приглашал. Точно так же и вы, читатель (не возражайте, все равно не поверю), и я, автор, отправились бы туда, если бы получили приглашение.
Глава XLVIII,
в которой читателя вводят в высшее общество
Наконец любезность и внимание Бекки к главе семьи ее мужа увенчались чрезвычайной наградой – наградой хотя, конечно, и не материальной, но которой маленькая женщина добивалась более усердно, чем каких-нибудь осязаемых благ. Если она и не питала склонности к добродетельной жизни, то желала пользоваться репутацией добродетельной особы, а мы знаем, что в светском обществе ни одна женщина не достигнет этой желанной цели, пока не украсит себя шлейфом и перьями и не будет представлена ко двору своего монарха. С этого августейшего свидания она уходит честной женщиной. Лорд-камергер выдает ей свидетельство о добродетели. И как сомнительные товары или письма проходят в карантине сквозь печь, после чего их опрыскивают ароматическим уксусом и объявляют очищенными, так и многие леди, имеющие сомнительную репутацию и разносящие заразу, пройдя через целительное горнило королевского присутствия, выходят оттуда чистые, как стеклышко, без малейшего пятна.
Пусть миледи Бейракрс, миледи Тафто, миссис Бьют Кроули в своем Хэмпшире и другие подобные им дамы, лично знавшие миссис Родон Кроули, кричат: «Позор!» – при мысли о том, что эта мерзкая авантюристка склонится в реверансе перед монархом, и пусть заявляют, что, будь жива добрая королева Шарлотта, она никогда не потерпела бы такой испорченной особы в своей целомудренной гостиной. Но если мы примем в соображение, что миссис Родон подверглась испытанию в присутствии первого джентльмена Европы и выдержала, так сказать, экзамен на репутацию, то, право же, будет явным нарушением верноподданнических чувств сомневаться и дальше в ее добродетели. Я, со своей стороны, с любовью и благоговением оглядываюсь на эту великую историческую личность. И как же высоко мы ценим на Ярмарке Тщеславия благородное звание джентльмена, если это высокочтимое августейшее лицо по единодушному решению лучшей и образованнейшей части населения было облечено титулом «Первого Джентльмена» своего королевства. Помнишь ли, дорогой М., о друг моей юности, как в некий счастливый вечер, двадцать пять лет тому назад, когда на сцене шел «Тартюф» в постановке Элистона и с Дотоном и Листоном в главных ролях, два мальчика получили от верноподданных учителей разрешение уйти из школы Живодерни[281], где они учились, чтобы присоединиться к толпе на сцене Друри-Лейнского театра, собравшейся приветствовать короля. Короля? Да, это был он. Лейб-гвардейцы стояли перед высочайшей ложей; маркиз Стайн (лорд Пудреной комнаты[282]) и другие государственные сановники толпились за его креслом, а он сидел толстый, румяный, увешанный орденами, в пышных локонах. Как мы пели «Боже, храни короля!». Как все здание сотрясалось и гремело от великолепной музыки! Как все надрывались, кричали «ура!» и махали носовыми платками! Дамы плакали, матери обнимали детей, некоторые падали в обморок от волнения. Народ задыхался в партере, крик и стон стояли над волнующейся, кричащей толпой, выражавшей такую готовность – и чуть ли не в самом деле готовой – умереть за него. Да, мы видели его. Этого судьба у нас не отнимет. Другие видели Наполеона. На свете живут люди, которые видели Фридриха Великого, доктора Джонсона, Марию-Антуанетту… Так скажем своим детям без ложного хвастовства, что мы видели Георга Доброго, Великолепного, Великого.
Итак, в жизни миссис Родон Кроули настал счастливый день, когда этот ангел был допущен в придворный рай, о котором он так мечтал. Невестка была как бы ее крестной матерью. В назначенный день сэр Питт с женой в большой фамильной карете (недавно заказанной по случаю ожидаемого получения баронетом высокой должности шерифа в своем графстве) подкатили к маленькому домику на Керзон-стрит, в назидание Реглсу, который, наблюдая из своей зеленной, увидал роскошные перья внутри кареты и огромные бутоньерки на груди лакеев в новых ливреях.
Сэр Питт в блестящем мундире, со шпагой, болтающейся между ног, вышел из кареты и направился в дом. Маленький Родон прильнул лицом к окну гостиной и, улыбаясь, кивал изо всех сил тетушке, сидевшей в карете. Вскоре Питт снова появился, ведя леди в пышных перьях на голове, закутанную в белую шаль и изящно поддерживающую свой шлейф из великолепной парчи. Она вошла в карету, словно принцесса, привыкшая всю жизнь ездить ко двору, и милостиво улыбнулась лакею, распахнувшему перед ней дверцы, и сэру Питту, который сел вслед за ней.
Затем появился Родон в своем старом гвардейском мундире, который уже порядочно поистрепался и был ему тесен. Он должен был замыкать процессию и прибыть с визитом к своему монарху в наемном экипаже, но добрая невестка настояла на том, что они все поедут по-семейному: карета просторная, дамы не слишком полные и могут держать шлейфы на коленях, – в конце концов все четверо отбыли вместе. Их карета скоро присоединилась к веренице верноподданнических экипажей, двигавшихся по Пикадилли и Сент-Джеймс-стрит по направлению к старому кирпичному дворцу, где «Брауншвейгская Звезда»[283] готовился к приему своего дворянства и знати.
Бекки готова была из окна кареты благословлять всех прохожих: в таком приподнятом состоянии духа находилась она и так сильно было в ней сознание того высокого положения, какого она наконец достигла. Увы, даже у нашей Бекки были свои слабости. Как часто люди гордятся такими качествами, которых другие не замечают в них! Например, Комус твердо убежден, что он самый великий трагик в Англии; Браун, знаменитый романист, мечтает прославиться не как видный писатель, а как светский человек; Робинсон, известный юрист, нисколько не дорожит своей репутацией в Вестминстер-Холле, но считает себя несравненным спортсменом и наездником. Так и Бекки поставила себе целью быть и считаться респектабельной женщиной и добивалась этой цели с удивительным упорством, находчивостью и успехом. Как уже говорилось, временами она готова была и сама вообразить себя светской леди, забывая, что дома у нее в шкатулке нет ни гроша, что кредиторы толпятся у ворот, поставщиков приходится уговаривать и умасливать, – словом, что у нее нет твердой почвы под ногами. И вот сейчас, отправляясь в карете – в фамильной карете! – ко двору, она приняла такой величественный, самодовольный, непринужденный и внушительный вид, что это вызвало улыбку даже у леди Джейн. Она вошла в королевские покои, высоко подняв голову, как подобало бы королеве; и если бы Бекки сделалась королевой, я не сомневаюсь, она бесподобно сыграла бы свою роль.