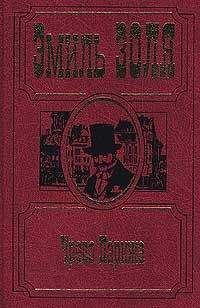Эмиль Золя - Собрание сочинений. Т. 4. Чрево Парижа. Завоевание Плассана
И быстро добавил, чтобы покончить со сделанным им заявлением:
— Половина второго; это просто разврат так засиживаться… Господин префект, разрешите вас поблагодарить.
Г-же де Кондамен удалось подвести итог беседе; набрасывая на плечи шаль, она промолвила:
— В конце концов, нельзя же допустить, чтобы выборами управлял человек, ползающий в первом часу ночи на коленях по салатным грядкам.
Эта ночь сделалась притчей во языцех. Кондамен развернулся вовсю, рассказывая об этом приключении де Бурде, Мафру и аббатам, не видавшим соседа со свечой в руках. Три дня спустя весь квартал клялся, что видел, как сумасшедший, колотивший жену, прогуливался в накинутой на голову простыне. В задней аллее, на послеполуденных собраниях, главным образом интересовались возможной кандидатурой сапожника, выдвигаемого Муре. Смеялись, потихоньку наблюдая друг за другом. Это был способ испытывать в политическом отношении своих ближних. Де Бурде, слушая некоторые признания своего друга — председателя, начал приходить к мысли, что между супрефектурой и умеренной оппозицией могло бы состояться молчаливое соглашение относительно его кандидатуры, с тем чтобы нанести решительное поражение республиканцам. Поэтому он все более и более саркастически относился к маркизу де Лагрифулю, тщательно подмечая малейшие его промахи в Палате. Делангр, лишь изредка заходивший на эти собрания, под предлогом своей чрезвычайной занятости делами городского управления, только улыбался при каждом новом выпаде бывшего префекта.
— Вам остается только похоронить маркиза, господин кюре, — сказал он однажды на ухо аббату Фожа.
Г-жа де Кондамен, услышав эти слова, повернула голову и с очаровательным лукавством приложила палец к губам.
Теперь аббат Фожа допускал в своем присутствии разговоры о политике. Изредка он даже сам высказывал какое-нибудь мнение, предлагал союз между честными и религиозными людьми. Тогда все принимались выражать горячее сочувствие этой идее — Пекер де Соле, Растуаль, де Бурде и даже Мафр. Ведь так легко было бы столковаться благонамеренным людям, чтобы потрудиться вместе над укреплением великих принципов, без которых не может существовать ни один строй. И разговор переходил на проблемы собственности, семьи, религии. Иногда снова появлялось имя Муре, и тогда Кондамен говорил:
— Я отпускаю сюда жену положительно со страхом. Как хотите, а я боюсь… Странные вещи вы увидите на выборах, если он будет на свободе.
Между тем Труш старался запугать аббата Фожа, сообщая ему самые ужасные новости во время утренних разговоров, которые он теперь ежедневно вел с ним. Он передавал, что рабочие старого квартала очень интересуются делами Муре; они собираются навестить его, чтобы самим убедиться в состоянии его здоровья, посоветоваться с ним.
Священник обычно пожимал плечами. Но однажды Труш вышел от него с радостным видом. Он обнял Олимпию и воскликнул:
— На этот раз, моя милая, дело сделано!
— Он позволяет тебе действовать? — спросила она.
— Да, совершенно свободно… Мы отлично заживем, когда этого болвана уберут.
Она еще лежала в постели; укутавшись в одеяло, она подпрыгивала на кровати и хохотала, как ребенок:
— Значит, все будет наше? Не так ли?.. Я займу другую комнату. И я хочу гулять в саду, готовить обед на кухне. Слышишь? Брат обязан сделать это для нас. Ты здорово помог ему!
Вечером Труш только к десяти часам явился в подозрительное кафе, в котором встречался с Гильомом Поркье и другими молодыми людьми из лучших семейств города. Над ним трунили, что он опоздал, уверяли, что он, наверно, гулял по набережной с молоденькими плутовками из Приюта пресвятой девы. Эти шутки обычно ему льстили, но на этот раз он сохранял важный вид, сказав, что ходил по очень важным делам. Лишь к полуночи, осушив несколько графинчиков, он размяк и пустился в откровенности. Прислонившись спиной к стене, он заикался, говорил Гильому «ты» и после каждой новой фразы пытался раскурить свою потухшую трубку.
— Сегодня вечером я видел твоего отца. Он славный малый… Мне нужна была одна бумажка. Он был очень, очень мил и дал мне ее. Она у меня в кармане… Ну, сначала он не хотел, говорил, что это дело семейное. А я ему сказал: «Я представитель семьи, мне поручила это мамаша…» Ты ведь ее знаешь, мамашу-то, ты у нее бываешь. Славная женщина! Она была очень довольна, когда я рассказал ей о нашем плане… Тогда он дал мне бумагу. Можешь ее потрогать. Она у меня в кармане…
Гильом пристально посмотрел на него и засмеялся с сомнением, желая скрыть таким образом свое любопытство.
— Я не вру, — продолжал пьяница. — Бумага у меня в кармане… Чувствуешь ее?
— Это газета, — сказал юноша.
Тогда Труш, посмеиваясь, вытащил из кармана сюртука большой конверт и положил его на стол посреди чашек и стаканов. Он сначала было отстранил руку, которую Гильом протянул, затем позволил ему взять конверт, смеясь так громко, как будто его щекотали. Это было очень подробное заявление доктора Поркье о состоянии умственных способностей Франсуа Муре, домовладельца в Плассане.
— Значит, его упрячут? — спросил. Гильом, возвращая бумагу.
— Это не твое дело, дружок, — ответил Труш, снова становясь недоверчивым. — Эта бумага — для его жены. Я только Добрый друг, готовый всегда оказать услугу. А она уж поступит, как захочет сама… Не станет же эта бедняжка дожидаться, когда ее укокошат!
Он был так пьян, что, когда их выставили из кафе, Гильому пришлось проводить его до улицы Баланд. Он пытался улечься на каждой из скамеек бульвара Совер. Дойдя до площади Супрефектуры, он стал хныкать и приговаривать:
— У меня нет больше друзей; я беден, от этого меня все презирают… А ты добрый юноша. Приходи к нам пить кофе, когда мы станем хозяевами. Если аббат нам будет мешать, мы отправим его туда же, куда и того… Он не очень-то умен, наш аббат, несмотря на всю свою важность; мне нетрудно обвести его вокруг пальца… Ты мой друг, истинный друг, не так ли? А Муре теперь крышка. Мы разопьем его винцо.
Доставив Труша к дверям его дома, Гильом пошел обратно, пошел дальше по улицам спящего города и, подойдя к дому мирового судьи, тихонько свистнул. Это был условный знак. Сыновья Мафра, которых отец собственноручно запирал в их комнате, открыли окно второго этажа и вылезли из него, держась за решетки, которыми были забраны окна нижнего этажа. Каждую ночь они таким образом отправлялись беспутствовать в обществе сына доктора Поркье.
— Ну, — сказал он им, когда они молча добрались до темных переулков возле вала, — напрасно мы стали бы теперь церемониться… Если отец будет еще говорить о том, чтобы сослать меня в наказанье в какую-нибудь дыру, я знаю, что ему ответить… Хотите держать пари, что меня примут в Клуб молодежи, когда я захочу?
Сыновья Мафра приняли пари. Все трое проскользнули в желтый дом с зелеными ставнями, приткнувшийся возле вала в конце тупика.
В следующую ночь у Марты был страшный припадок. Утром она присутствовала на продолжительной религиозной церемонии вместе с Олимпией, которая непременно захотела остаться до конца. Когда Роза и все жильцы сбежались на душераздирающие крики Марты, они нашли ее лежащею на полу у кровати, с рассеченным лбом. Муре, стоя на коленях среди смятых одеял, дрожал всем телом.
— На этот раз он ее прикончил! — закричала кухарка. Она взяла Муре под руки и, хотя тот был в одной рубашке, вытолкнула его из комнаты так, что он отлетел к двери кабинета, находившейся через площадку. Потом вернулась и, забрав тюфяк и одеяло, швырнула их туда же. Труш побежал за доктором Поркье. Доктор перевязал рану Марты; на две линии ниже — и удар был бы смертельным, сказал он. Внизу, в прихожей, в присутствии всех, он заявил, что необходимо действовать, нельзя больше оставлять жизнь г-жи Муре на милость буйного сумасшедшего.
На следующий день Марта не вставала с постели. Она еще бредила, видела железную руку, рассекавшую ей голову сверкающим мечом. Роза наотрез отказалась допустить к ней Муре. Она подала ему завтрак в кабинет, на пыльный стол. Он не стал есть и тупо смотрел на тарелку, когда кухарка ввела к нему трех мужчин в черном.
— Вы врачи? — спросил он. — Как она себя чувствует?
— Ей лучше, — ответил один из них.
Муре машинально отрезал кусок хлеба, словно собираясь есть.
— Я бы хотел, чтобы дети были здесь, — проговорил он. — Они бы за ней ухаживали, мы были бы не так одиноки… С тех пор как не стало детей, она начала хворать. Да и я тоже не совсем здоров.
Он поднес ко рту кусочек хлеба, и крупные слезы потекли по его щекам. Тогда человек, уже говоривший с ним, сказал, бросив взгляд на своих спутников:
— А вы не хотели бы съездить за вашими детьми?
— Очень хочу! — воскликнул Муре, вставая. — Поедемте сейчас же.
На лестнице он не заметил Труша с женой, которые, перегнувшись через перила третьего этажа, горящими глазами следили, как он спускался со ступеньки на ступеньку. Олимпия быстро сбежала вслед за ним и бросилась в кухню, где Роза, сильно взволнованная, подсматривала из окна. И когда карета, дожидавшаяся у подъезда, увезла Муре, Олимпия опрометью вбежала на третий этаж, схватила Труша за плечи и заплясала с ним на площадке, задыхаясь от радости.