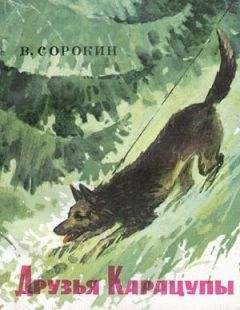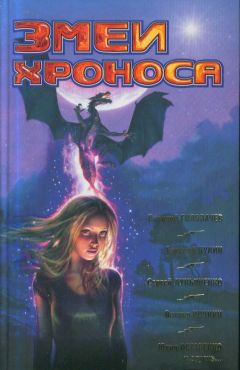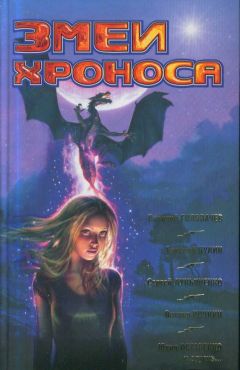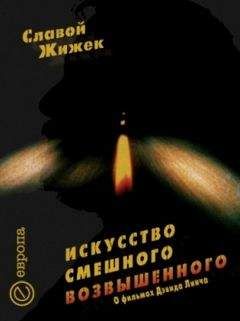Василий Гроссман - Жизнь и судьба
По ночам в хибарках было холодно, и спал Даренский плохо, — мерзли спина, уши, ноги, пальцы рук, стыли щеки. Спал он не раздеваясь, наматывал на ноги две пары портянок, голову повязывал полотенцем.
Вначале он удивлялся, что люди, с которыми он имел здесь дело, казалось, не думали о войне, головы их были забиты вопросами жратвы, курева, стирки. Но вскоре и Даренский, говоря с командирами дивизионов и батарей о подготовке орудий к зиме, о веретенном масле, об обеспечении боеприпасами, заметил, что и его голова полна всяких бытовых тревог, надежд и огорчений.
Штаб фронта казался недосягаемо далеким, он мечтал о меньшем, — съездить на денек в штаб армии, под Элисту. Но, думая об этой поездке, он не представлял себе встречи с синеглазой Аллой Сергеевной, а размышлял о бане, о постиранном белье, о супе с белой лапшой.
Даже ночевка у Бовы представлялась ему теперь приятной, не так уж плохо было в хибарке Бовы. Да и разговор с Бовой был не о стирке, не о супе.
Особенно мучили его вши.
Долгое время он не понимал, почему так часто стал почесываться, не замечал понимающей улыбки собеседника, когда во время служебного разговора вдруг свирепо скреб подмышку или ляжку. День ото дня он чесался все усердней. Привычным стали жжение и зуд возле ключиц, под мышками.
Ему казалось, что у него началась экзема, и он объяснял ее тем, что кожа у него стала сухой, раздражена пылью и песком.
Иногда зуд был таким томящим, что он, идя по дороге, неожиданно останавливался и начинал скрести ногу, живот, копчик.
Особенно сильно чесалось тело ночью. Даренский просыпался и с остервенением долго драл ногтями кожу на груди. Однажды он, лежа на спине, задрал кверху ноги и, стеная, стал чесать икры. Экзема усиливалась от тепла, он подметил это. Под одеялом тело чесалось и жгло совершенно нестерпимо. Когда он выходил ночью на морозный воздух, зуд стихал. Он подумывал сходить в медсанбат, попросить мазь от экземы.
Как-то утром он оттянул ворот рубахи и увидел на воротнике вдоль швов шеренгу сонных, матерых вшей. Их было много. Даренский со страхом, стыдясь, оглянулся на лежавшего по соседству с ним капитана, капитан уже проснулся, сидел на койке и с хищным лицом давил на своих раскрытых подштанниках вшей. Губы капитана беззвучно шептали, он, видимо, вел боевой счет.
Даренский снял с себя рубаху и занялся тем же делом.
Утро было тихое, туманное. Стрельбы не было слышно, самолеты не гудели, и потому, должно быть, особенно ясно слышалось потрескивание вшей, погибавших под командирскими ногтями.
Капитан, мельком поглядев на Даренского, пробормотал:
— Ох и здорова — медведица! Свиноматка, должно быть.
Даренский, не отрывая глаз от ворота рубахи, сказал:
— Неужели не выдают порошка?
— Дают, — сказал капитан. — Да что толку. Баню надо, а тут питьевой воды не хватает. Посуду в столовой почти не моют, экономят воду. Где уж тут — баня.
— А вошебойки?
— Да ну их. Только обмундирование горит, а вошь лишь румяней становится. Эх, в Пензе мы стояли — в резерве, вот жили! Я в столовую даже не ходил. Хозяйка кормила, — еще не старая бабка, сочная. Два раза в неделю баня, пиво ежедневно.
Он нарочно вместо «Пенза» произносил «Пенза́».
— Что же делать? — спросил Даренский. — До Пензы далеко,
Капитан, серьезно глядя на него, доверительно сказал:
— Есть один хороший способ, товарищ подполковник. Нюхательный табак! Натолочь кирпича и смешать с нюхательным табаком. Посыпать белье. Вошь начнет чихать, мотнется, ну и раздробит себе башку о кирпич.
Лицо его было серьезно, и Даренский не сразу понял, что капитан обратился к фольклору.
Через несколько дней Даренский услышал с десяток историй на эту тему. Фольклор оказался богато разработан.
Дни и ночи голова его теперь была занята множеством вопросов: питание, стирка белья, смена обмундирования, порошок, утюжка вшей с помощью горячей бутылки, вымораживание вшей, выжигание вшей. Он и о женщинах перестал думать, и ему вспомнилась поговорка, которую он слышал в лагере от уголовников: «Жить будешь, а бабу не захочешь».
59
Весь день Даренский провел на позициях артиллерийского дивизиона. За день не слышал он ни одного выстрела, ни один самолет не появлялся в воздухе.
Командир дивизиона, молодой казах, сказал ему, чисто чеканя русские слова:
— Вот, думаю, на будущий год бахчу здесь развести. Приезжайте дыньки кушать.
Командиру дивизиона здесь не было плохо, он шутил, показывая белые зубы, легко и быстро ходил на кривых, коротких ногах по глубокому песку, дружелюбно поглядывал на верблюдов, стоявших в упряжке возле хибарок, покрытых лоскутами толя.
Но хорошее настроение молодого казаха раздражало Даренского, и он, желая одиночества, к вечеру пошел на огневые позиции первой батареи, хотя уже днем побывал там.
Взошла луна, — невероятно огромная, больше черная, чем красная. Багровея от усилий, она подымалась в прозрачной черноте небес, и в ее гневном свете совсем особо, тревожно и настороженно выглядела ночная пустыня, длинноствольные пушки, противотанковые ружья и минометы. По дороге потянулся караван верблюдов, запряженных в скрипящие деревенские подводы, груженные ящиками со снарядами и сеном, и все несоединимое соединилось, — тракторы-тягачи, и автофургон с типографской техникой армейской газеты, и тонкая мачта рации, и длинные верблюжьи шеи, и плавная, волнистая верблюжья походка, такая, словно во всем верблюжьем теле не было ни одной твердой кости, а все оно было отлито из каучука.
Верблюды прошли, в морозном воздухе встал деревенский запах сена. Вот такая же, больше черная, чем красная, выплывала огромная луна над пустынным полем, где сражалась дружина Игоря. Вот такая же луна стояла в небе, когда полчища персов шли на Грецию, римские легионы вторгались в германские леса, когда батальоны первого консула встречали ночь у пирамид.
Человеческое сознание, обращаясь к прошедшему, всегда просеивает сквозь скупое сито сгусток великих событий, отсеивает солдатские страдания, смятение, солдатскую тоску. В памяти остается пустой рассказ, как были построены войска, одержавшие победу, и как были построены войска, потерпевшие поражение, число колесниц, катапульт, слонов либо пушек, танков и бомбардировщиков, принимавших участие в битве. В памяти сохранится рассказ о том, как мудрый и счастливый полководец связал центр и ударил во фланг и как внезапно появившиеся из-за холмов резервы решили исход сражения. Вот и все, да обычный рассказ о том, что счастливый полководец, вернувшись на родину, был заподозрен в намерении свергнуть владыку и поплатился за спасение отечества головой либо счастливо отделался ссылкой.
А вот созданная художником картина прошедшей битвы: огромная тусклая луна низко нависла над полем славы, — спят, раскинув широко руки, богатыри, закованные в кольчуги, валяются разбитые колесницы либо подорванные танки, и вот победители с автоматами, в развевающихся плащ-палатках, в римских касках с медными орлами, в меховых гренадерских шапках.
Даренский, нахохлившись, сидел на снарядном ящике на огневых позициях артиллерийской батареи и слушал разговор двух красноармейцев, лежавших под шинелями у орудий. Командир батареи с политруком ушли в штаб дивизиона, подполковник, представитель штаба фронта — артиллеристы узнали, кто он, у связного, — казалось, крепко заснул. Красноармейцы блаженно дымили самокрутками, выпускали клубы теплого дыма.
Это, видимо, были два друга, связанные тем чувством, которое всегда отличает истинных друзей, — уверенностью, что каждая пустая мелочь, происшедшая в жизни одного, всегда значительна и интересна для другого.
— И что? — спрашивал, как будто насмешливо и безразлично, один.
А второй, как будто нехотя, отвечал:
— Что, что, разве ты его не знаешь? У человека — ноги болят, человек не может в этих ботинках.
— Ну и что?
— Вот и остался в ботинках, не босиком же ходить.
— Да, значит, не дал сапог, — проговорил второй, и в голосе его не было следа насмешки и безразличия, — он весь был полон интереса к событию.
Затем они заговорили о доме.
— Что баба пишет? Того нет и этого нет, то мальчишка болеет, то девчонка болеет. Ну, баба, знаешь.
— А моя так прямо пишет: вам-то на фронте что, у вас пайки, а мы тут совсем пропадаем от военных трудностей.
— Бабий ум, — сказал первый, — она сидит себе в глубоком тылу и понять не может, что на передовой. Она твой паек видит.
— Точно, — подтвердил второй, — она не достала керосину и уж думает, что хуже этого дела на свете нет.
— Ясно, в очереди постоять трудней, чем в песках этих от танков бутылками отбиваться.
Он сказал про танки и бутылки, хотя и он, и собеседник его знали, что немцы ни разу не пускали здесь танков.