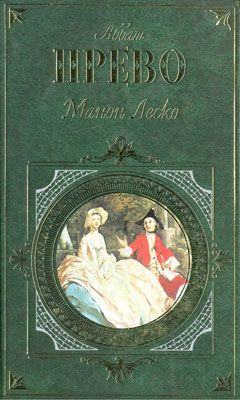Шодерло Лакло - Опасные связи. Зима красоты
Рашель сказала по телефону: «Не беспокой меня сейчас, я работаю. У нас вся жизнь впереди — после операции». Это слово пугало меня. Ее — тоже, и я подозревала, что она «укладывает чемоданы», ибо, отправляясь в такое странствие, никогда не бываешь уверенным в благополучном возвращении, если хоть сколько-нибудь реально смотреть на вещи.
Мне пришлось явиться в клинику к Полине для заключительного осмотра. Она осунулась, выглядела нервной и рассеянной. «Все нормально», — сказала она, снимая швы у меня за ухом, и никак не прокомментировала тот факт, что я больше не прячу под челкой пустую глазницу. Когда-то она мечтала вставить мне искусственный глаз и теперь опять заговорила об этом, но как-то машинально.
Я отказалась. Мне не хотелось носить в себе чужой предмет — неподвижный, а главное, бесполезный.
— Не глупи, у тебя вся щека набита пластиком, это что — не чужое?
Я только пожала плечами; мое решение было принято, и если она не понимала, то как ей объяснить? Поистине, до нее ничего не доходило сразу. Почему эта женщина, временами столь проницательная, становилась бесчувственной, когда речь заходила о живом? Вернее, о высших млекопитающих, каковыми мы являемся; будь я ее кошкой, она бы раскусила меня в два счета.
Руки у нее дрожали. Заметив мой взгляд, она вытянула их перед собой. Дрожь усилилась: теперь ты понимаешь, почему врачебная этика запрещает оперировать родных? Вот затем-то я и стараюсь держать дистанцию, называя лица рожами, — твое, в частности, а пациентов — «случаями»; теперь тебе все ясно, ЦЫПОЧКА?
Я всегда через силу воздаю по справедливости тем, кого побаиваюсь, кому не верю, но в данном случае Полина была трижды права.
Барни, о котором я также не забывала, названивал мне каждый день, задавая один и тот же вопрос: ну как, едем или не едем? В конце концов я заорала в трубку, что он мне осточертел, что он у меня в печенках сидит, неужели ему не понятно, что я не уеду из Парижа, пока не прооперируют Рашель?!
Диэго избегал подробностей о нынешнем житье-бытье, посвящая свои письма в основном предотъездному периоду, и делал это с большим смаком. «Я наведался в мастерскую Сен-Манде, — писал он, — в тот вечер, когда ты отправилась на семейный ужин к предкам. Зная нашу madre, я был уверен, что ты застрянешь там на добрых четыре часа, выслушивая охи и ахи по поводу расширения вен, воспаления яичников, опущения матки, а также заявления типа «не ценишь ты своего счастья: иметь такое железное здоровье!». Я последовал по твоим стопам, детка, — мне захотелось увидеть хотя бы одну из этих троих. Не могу сказать, что мне нравятся женщины, находящие в гинекеях единственное прибежище… впрочем, я вечно попадаю пальцем в небо, да и кто я такой, чтобы судить их — всего лишь грязный латиноамерикашка! Но ты не беспокойся: сперва я, конечно, позвонил; я ведь понял, что с сердечниками следует обращаться осторожно… Ну, в общем, ты понимаешь, что имеется в виду. Она же засмеялась: приходите и поднимайтесь прямо ко мне, я уже не позволяю себе быть учтивой и встречать гостей на пороге дома, лестницы у нас слишком крутые.
Она и не подумала навести красоту в мою честь: замусоленный чинарик в зубах, встрепанный вид, взгляд испуганной лисицы… Но она понравилась мне сразу же. Я бы хотел прийтись этой женщине по сердцу, чтобы слегка побаловать ее, — а почему бы и не доставить себе такое удовольствие перед тем, как слинять отсюда, вот было бы интересно! Это ведь совсем не то, что тупо трахаться с киношными красотками, — так-то, детка! Я не оправдываюсь, — просто хочу объяснить. Но она взглянула на меня с высокомерным любопытством недотроги, как будто хотела сказать: неужто никто не догадался оказать вам услугу — набить морду в юные года, чтобы поставить на место? Это было настолько очевидно, что мы оба захохотали как сумасшедшие. Потом я рассказал ей о моих планах — ты понимаешь, каких, — о гасиенде, о Жунсао, об Изабель, — такой, какой я ее видел; и знаешь, Керия, что она сделала? Вдруг повернула ко мне один из своих холстов: берите эту картину, сохраните ее; если я доживу до своей персональной выставки, тогда вы мне ее вернете. Я не осмелился показать тебе ее перед отъездом, я увез эту картину с собой, — практически украл, поскольку не собираюсь возвращаться.
Я молюсь за Рашель, реquena[103], да, я молюсь за то, чтобы она выжила. Лицо Изабель, каким она его увидела, это лицо безумной, всепоглощающей любви, несбывшегося ужаса и еще чего-то, что мы с тобой ищем с давних пор… по крайней мере, я-то точно ищу. Я гонюсь за тем, о чем поет твоя страшная сирена, о чем кричит эта картина. Дорогая моя сестренка, я люблю твою подругу!»
Когда Диэго впадает в лирику, он прыгает от одной мечты к другой, как девочки, играющие в классики. На одной ножке, на другой, и на двух — из Рая в Ад…
* * *Минна умерла. Войдя однажды утром в ее спальню, служанки увидели старую даму мирно покоящейся в постели; руки ее прикрывали медальон на груди. Неужели она вот так и спала каждую ночь, касаясь пальцами портрета своей старой любви? Я — я сплю с пустыми руками.
Из ночного сна она незаметно соскользнула в сон вечный. Мы тотчас поспешили к ней в дом, Хендрикье и я. В этой тесной и теплой, несмотря на уличный холод, спаленке смерть постеснялась выпускать свои безжалостные когти. Лицо усопшей было умиротворенно-спокойным.
Хендрикье, не говоря ни слова, приподняла почти невесомое тело, я вытащила из-под него простыни. Мы обмыли Минну так бережно, как моют живых — не мертвых. У нас почему-то не было ощущения конца, хотя она уже окоченела и кожа ее приняла восковой оттенок, и я подумала, что вот Мадлен не удалось уйти так безболезненно и мирно. Конечно, Минна была стара, но подобная мысль утешает лишь равнодушных. Мы обрядили ее в белое и голубое, мы вновь скрестили ее пальцы на символе ее верности — маленьком портрете — и прикрыли до самого подбородка пожелтевшей простынею, давно припасенной для савана. Простое полотно — ни вышивки, ни кружев. Откуда она взялась у нее в доме? Но Хендрикье проворчала: фру Минна ведь была бедна до того, как вышла за Мари ван Хаагена, нешто вы этого не знали? — и ее печальные глаза искали мой взгляд: «Знаешь, Изабель, ведь моя мать была ее молочной сестрой!»
Пришли какие-то тихие, молчаливые люди; они не глядели на нас и исчезли, как явились, безымянные и безгласные, удостоив Хендрикье лишь кивком и словно не заметив меня. Я поняла без объяснений: Минна не отреклась от тех, кто принадлежал к ее бедной семье.
Опечаленный пастор присел у постели: слишком много смертей за такое короткое время… Он не молился, — вернее, губы его шевелились просто, без слов. От этой ночи у меня осталось впечатление всеобщей немоты, безмолвной скорби; мне и самой хотелось неслышно завыть на луну. Словно бродячей собаке. И уже не хватало Минны, ее тихого неназойливого присутствия, ее такого ясного, безмятежного взгляда.
Зимою, в стужу, вечера наступают рано. Пастор, несмотря на преклонный возраст, долго сидел с нами: мы все любили ее, прошептал он. Мы зажгли четыре сальные грошовые свечки, найденные в комоде вместе со смертной простыней. В быстро остывающей комнате сидели мы, подремывая, — не люди, а почти что призраки, тени на стене. Начало светать; вошла Аннеке, тронула мать за плечо: иди поешь! — и села напротив меня, почти касаясь коленями: «Надо бы известить ее сына. На днях из Гааги отходит судно — туда, где они сейчас, напишите ему. Напишите за всех нас, скажите, что мы тоскуем». Заметив мое удивление, она вдруг выпрямилась с неуклюжим, но оттого не менее ожесточенным высокомерием: «Вот странное дело, мадам Изабель, я-то знаю, что вы любили, но нынче вы любите плохо, ни разу не поинтересовались ничем. А вот в Гааге полно людей, что ходят в плаванье туда, к ним. Они называют это место Ресифом; там, между двух рек, они строятся на песках и на отмелях, прямо как у нас здесь. Говорят, жизнь в тех местах суровая; людей одолевают ядовитые мухи, по реке несет всякую падаль, кругом пустынно. Моряки увозят и привозят вести, напишите же им!»
И я написала о том, что вслед за Мадлен умерла Минна. И что скоро за ними последует весь город, если слухи, доходящие из Франции, будут по-прежнему горячить здешние умы. Я предупреждала, что не намерена ждать, когда грянет гром — и из-за себя самой, и из-за Коллена. Ему уже два года, и Революция, почти его ровесница, уничтожила стольких детей, что уж конечно будет убивать их и дальше. «Ты уехал, чтобы обеспечить будущее своим сыновьям, — писала я, — так берегись, как бы в один прекрасный день для этого будущего не остались одни только имена на могильных камнях». Конечно, то была пустая риторика, но я не знала, как выразиться сильнее. Минна оставила завещание, в котором наделяла меня — «женщину, не имеющую иного достояния, как только сердечная любовь к близким», всеми своими правами. Сделавшись, в силу данного распоряжения, опекуншею Коллена, я известила Армана-Мари, что ему лучше иметь дело с Шомоном, нежели со мною, а уж я прослежу, чтобы тот не злоупотреблял своею властью поверенного для собственной выгоды. «А пока знай, что голод в стране заставил меня немало потратиться на прокорм твоего семейства и слуг. Вы ушли в плаванье, не слишком заботясь о тех, кого оставили здесь, и не обеспечив должным образом свои семьи». Я была разъярена этим отсутствием, этой забывчивостью, всем, что я узнала от Аннеке; оказывается, ДРУГИЕ-то заботились о домашних, пусть только мысленно, издалека, из-за моря! — и ярость моя побуждала вновь и вновь возвращаться к словам о том, что не имеют они права свободно располагать собою, позабыть о нас, исключить близких из своей жизни. Нам уже все уши прожужжали благими речами, которые, выйдя из салонов, теперь стали популярными на улицах. Но те, кто щеголял этими прекраснодушными идеями, никогда не знал голода, тогда как здешние женщины и дети давно позабыли вкус белого хлеба. Любовью к ближнему и праведными мыслями сыт не будешь. Можно позволить себе превозносить свободу лишь в том случае, когда она не стоит вам жизни. Я прекрасно понимала, что преувеличиваю: уж мне-то хватило бы одного-единственного слова из его уст, чтобы насытиться на долгие годы, и все же… все же и я похожа на других: мое сердце требует любви лишь на сытый желудок.