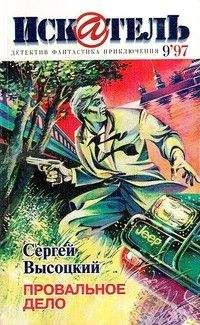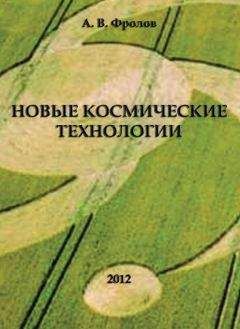Владимир Солоухин - Смех за левым плечом
Я ночевал, помнится, в небольшой избе у одинокой пожилой женщины, которая целый вечер рассказывала мне про Караваево: какое это было зеленое, чистое, многолюдное село, и какие покосы бывали за Пекшей, и сколько рыбы водилось в реке, и какие красивые были церкви, и какие ярмарки шумели в Успеньев день.
– А вот я слышал, были тут какие-то Чебуровы…
– А как же! Мельница на Пекше была. Вот если завтра пойдете, можете углядеть, где раньше плотина стояла. Ничего уж не осталось, но где плотина стояла, углядеть можно. Хорошая была мельница и реку поддерживала.
– А дом?
– Там же, на возвышении, на просторном месте стоял, на отшибе от села. Большой и хороший был дом.
– Что же, вы и самих Чебуровых помните?
– Помню. Иван Михайлович давно, загодя еще умер. Правда, все равно уж слепой был.
– Что значит – загодя?
– Ну… до коллективизации еще. А Василиса… вот уж не знаю. У них ведь дочка Стеша в Олепино была выдана. Василиса, пожалуй, у нее в Олепине доживала. Здесь разорилось все – ни дома, ни мельницы, а как уж у них в Олепине там, сказать не могу…
…Золотых шаров не было ни в одном палисаднике (хотя бы и не цветущих пока по времени года), как, впрочем, и самих палисадников, винограда в решетах – тоже. Я походил взад-вперед по обшарпанному, полуразоренному селу, подошел к церквам. В одной из них был устроен по первоначальному рвению паточный завод, приделана к белой стене черная железная труба. Но теперь, конечно, не до патоки. Мертво и пусто. Вторая церковь разрушена. Останки ее спихивали бульдозером под обрыв к реке: весь крутой откос от высокой площадки, где стояла церковь, до черной, ядовитой теперь (из-за кольчугинских заводов) воды, усыпан розово белым щебнем.
Под церковью находился склеп с захоронением Кузьминых-Караваевых, Апраксиных, Голицыных, Воронцовых. Степанида Ивановна рассказывала мне, что в молодости ее водили в склеп, и она даже хотела дотронуться до траурной ленты, но лента от прикосновения рассыпалась в прах. Потом (см. «Владимирские проселки») склеп был разорен (искали саблю фельдмаршала Воронцова, кости все повыбрасывали наружу, а черепом фельдмаршала мальчишки играли, как в футбол).
От чебуровского дома осталось пустое место, обозначенное лишь куртинками крапивы, да и та вырождается за давностью лет. Я постоял около крапивы, стараясь вспомнить хоть какой-нибудь смутный образ дома и деда Ивана Михайловича, но ничего, кроме золотых шаров и решета с виноградом, не вспомнил. Да еще вот коричневые тона портрета, на котором был изображен широкобородый, широконосый старик.
Казалось бы, что мне до этого старика? И что мне до этой крапивы, до бывшего дома, до бывшей мельницы? Но зачем-то я, волею судеб, похож (в материнскую родню) именно на этого старика.
Одним летом (совсем уж недавно) мы съехались в Алепине и жили – я и две мои старшие сестры, Катюша и Тоня.
Просидели июль и август. Заметно темнее и звезднее стали ночи, более ранними вечера. Все же успеешь за день – и наработаться, и начитаться, и нагуляться, так что вечером как-то вроде бы нечего уж и делать. Ну, положим, я еще могу шелестеть, перебирая, своими бумагами, страницами, а им, сестрам, – ни хлопот, ни забот, никакого занятия. И вот они начинают играть в картишки. Однако все порядочные игры расчитаны на троих, четверых человек и больше. Крепишься-крепишься, а потом и поддержишь их компанию. Ну ладно, пики, трефы, тузы и дамы. Играли, играли, а Катюша и говорит:
– Мы забыли, а ведь завтра Успеньев день. В Караваево – в гости.
– Как же, – поддержала Тоня, – папа колеса уж смазал. Запряжет завтра Голубчика, подбросит свежего клеверку на телегу и поедем. Погода завтра будет хорошая, передавали, что без осадков, ярмарку дождем не разгонит.
(Алексей Алексеевич к этому времени – дело было в 69-м году – двенадцать лет уж как лежал в земле, Степанида Ивановна – два года, и уж десятки лет как ни телеги, ни Голубчика, и от чебуровского дома, как знаем, ни кола ни двора, про ярмарку смешно и говорить, но вот надо же, развоспоминались за картишками в августовский вечер, в канун Успеньева дня.)
– Да, это была другая планета. Удивительно, мы вроде бы те же самые, а живем, как на другой планете… А еще я вспоминаю, что всегда в этот день мы видели журавлей.
– Как же, как же, обязательно журавли! На гороховых полях. Горох-то убрали, но много его просыпалось из спелых стручков. Журавли подбирали. А потом папа взмахнет кнутом, и они, – мечтательно, – полетят…
– Знаете, что я вам скажу… Я уж лет двадцать пять журавлей не видел. Нет и нет. Умирать будешь и вспомнишь: а журавлей-то я так больше и не увидел.
– Что это ты умирать собрался, – с присущей ей резкостью в суждениях выступила Тоня. – Живи!
– Я не собираюсь умирать. Но если я уже двадцать пять лет не видел журавлей, то где гарантия, что я увижу их в будущие двадцать пять? А за двадцать пять лет можно и умереть. Я не уверен, что через двадцать пять лет (а сестрам за шестьдесят) мы вот так же все трое будем мирно играть в картишки и вспоминать Караваево.
Каждый прикинул про себя этот срок, наложил его на свои годы, и стало как-то тихо-тихо за столом и в доме. Тихий Ангел пролетел, говорят про такую минутку.
Тоня поспешила разрушить это наше состояние:
– Ладно, ладно. Давай сдавай. Еще один кон сыграем и спать.
Но уже не сдавалось и не игралось.
Рано утром я вышел на улицу, к машине, собираясь ехать по грибы. Поднял капот, долил воды, проверил уровень масла.
Вдруг мое внимание привлек какой-то шум на другом конце села. Удивительно, что я еще не понял конкретно, что за шум, но уже знал почему-то, что это то самое и не может быть ничем иным. Поворачивая голову, я уже знал, что именно увижу.
И тем не менее я не поверил своим глазам. С другоro конца села, над самыми крышами домов, летели огромные (оттого что так низко), неправдоподобные, как это могло бы быть только в сновидении, длинношеие птицы. Они летели без четкого строя, просто широкой стеной, как если бы галки или вороны, но нет, это были не галки и не вороны.
Колокольня разделила было их стаю на две части (справа и слева), они быстро миновали ее, а тут как раз – наш дом, его железная крыша и кирпичная печная труба.
Птицы как-то все сразу накренились на одно крыло и пошли кругом, виражом, воронкой, водоворотом над крышей и над трубой. С каждым кругом они поднимались все выше и одновременно понемногу сдвигались к югу.
Высыпали из домов люди. Помню, что сосед Александр Николаевич кричал: «Журавли, журавли… девятнадцать!»
Соседка Маруся Кузова почему-то начала считать их круги: десять, двенадцать, четырнадцать…
Я не мог считать ни птиц, ни кругов. Я смотрел и не верил тому, что вижу. Выбежали и сестры. У Катюши на глазах – слезы, от волнения, что ли, и от сопоставления вчерашнего разговора с этим зрелищем, а Тоня сказала, как отрезала, в своей манере:
– Ну вот, а ты говорил…
Но все-таки, что же это такое было?
8
В Караваеве праздновался Успеньев день, а в маленькой деревеньке Брод («на Броду» – говорится в наших местах) осенний Кузьма – Демьян, и тут уж, в деревеньке-то о пятнадцати домах, вытянувшихся цепочкой по берегу речки (а баньки сбежали от домов, с пригорка, к самому бережку на луговину), ни ярмарки, ни многолюдных гуляний, только гости в каждом доме и угощение гостям. Тихие родственные застолья: чистые столешники, закуски, мясная еда, графинчики, самовар во главе стола. И не двадцать верст до Брода, а одна – кривая, правда – верста.
Из боковых окон нашего дома видна зеленая луговина сельской улицы, тележная, в две прорези от колес дорога через эту зеленую луговину, а за дорогой сама улица, то есть порядок домов, примыкающих один к другому. Перед домами растут ветлы с округлыми, похожими на зеленые облака, кронами. Из-за этих-то крон и домов вид из наших окон ограничен. Ветлы и крыши загораживают далекий просторный мир. Да тут еще и своя сирень, под самыми уж окнами (подробнее о ней в своем месте), видимая из низких окон первого этажа только коричневыми стволами, а против верхних окон, как раз раскудрявившаяся, распушившаяся, протягивала к окнам свои зеленые листья, а по весне и яркие кисти цветов и окончательно застила белый свет.
Но из окна дедушкиной спальни попадаешь взглядом в удачный прогалок между ветлами и крышами (а сирени тут уже нет) и тотчас взглядом оказываешься у горизонта, где из-за темной полоски леса показывается беленький, заостренный наперсток церковки. Перед темной полоской леса земля светится яркой зеленью озими, или ярким золотом нивы, или тусклым золотом жнивья с крохотными крестцами, расставленными по полю, или черным бархатом свежей пашни. Там-то, на этом поле, в прогалке между ветлами и крышами далеко-далеко, как в перевернутом бинокле можно бы сказать, если бы тогда был у меня бинокль, и стояла всегда ветряная мельница.
Утром я, загадывая, подбегал к окну, – крутятся крылья мельницы или неподвижны крестообразные лопасти? В моем сознании эта мельница жила величиной со спичечный коробок, поэтому, когда отец однажды подвел меня к ней, испугало нарастание громады, по сравнению с которой все меньше и меньше становились мы с отцом, и пришлось запрокидывать голову, чтобы охватить все сооружение. Дверь в мельницу, казавшаяся из дедушкиной спальни точечкой, дыркой, летком в улье и даже меньше летка, превратилась в большую дощатую дверь, а лопасть, будучи освобождена от запора, вдруг поплыла от меня чуть ли не в облака. В бревенчатом и тесовом великане, чья крыша подернута ярким, как яичный желток, плотным лишайником, как мне было узнать мою ежеутреннюю игрушку?