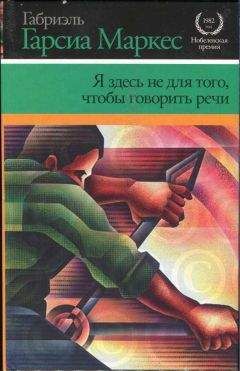Габриэль Маркес - Хроника предсказанной смерти
Годы спустя, когда я возвратился в поисках последних свидетельств для этой хроники, от былого счастья Иоланды де Сиус не осталось и следа. Вещи мало-помалу исчезали, несмотря на охрану, установленную полковником Лазаро Апонте, пропал даже шестидверный зеркальный шкаф, который лучшим плотникам из Момпоса пришлось собирать в доме, потому что он не прошёл в дверь. Поначалу вдовец де Сиус тешил себя мыслью, что всё это – проявления посмертной воли его жены, стремящейся забрать своё. Полковник Апонте над ним потешался. Но однажды ночью, во время спиритического сеанса, устроенного ради разъяснения этой тайны, душа Иоланды де Сиус подтвердила, что именно она собирает для своего загробного дома хлам, оставшийся от обители счастья. Кинта начала разрушаться. Свадебный автомобиль рассыпался на части у дверей, и в конце концов от него остался лишь проржавевший под дождями остов. В течение долгих лет о хозяине автомобиля ничего не было известно. В обвинительном заключении стояло его заявление, но такое краткое и общее, что казалось, его приписали в последний момент, только для проформы. Единственный раз, когда я попытался заговорить с Байардо Сан-Романом 23 года спустя, он принял меня довольно неприветливо и отказался сообщить даже самые незначительные детали, которые хоть сколько-нибудь могли бы прояснить его участие в драме. В любом случае, даже его собственные родители знали о нём не больше чем мы, и ни малейшего представления не имели о том, что он собирался делать в богом забытом городке, куда приехал безо всякой ясной цели, кроме женитьбы на женщине, которая его ни разу прежде не видела.
От Анхелы Викарио, напротив, прилетали весточки, создавшие в моём воображении отстранённый, идеальный образ. Моя сестра-монахиня бывала в Гуахире, пытаясь обратить последних идолопоклонников, и обычно задерживалась поболтать с Анхелой в той деревне, окружённой солёной карибской водой, где старшая Викарио пыталась заживо похоронить дочь. "Привет тебе от кузины", – каждый раз говорила сестра. Сестра Марго, которая тоже ездила к Анхеле первые несколько лет, рассказывала, что Викарио купили дом с огромным патио, стоящий на семи ветрах, основным недостатком которого было то, что по ночам во время высокого прилива заливало выгребные ямы, а в спальнях с утра бились в лужах рыбины.
Все кто видел Анхелу в те времена, сходились в том, что она сосредоточенно и деловито управлялась со швейной машинкой и в работе нашла забвение.
Много позже, в то смутное время, когда, пытаясь разобраться в себе, я торговал энциклопедиями и медицинскими справочниками по деревням Гуахиры, мне довелось добраться до той индейской резервации. В окне дома, стоявшего к морю фасадом, в самый жаркий полуденный час я увидел изжелта-седую женщину в очках с проволочной оправой, одетую в полутраур, сидящую за швейной машинкой; над головой женщины висела клетка с канарейкой, не смолкавшей ни на мгновение. Увидев Анхелу так, в идиллическом обрамлении оконной рамы, я не хотел поначалу верить, что это именно та женщина, о которой я думал. Я не желал допустить, что жизнь может быть так похожа на скверный роман. Но это была она: Анхела Викарио 23 года спустя после трагедии.
Я был принят совершенно обычно, как дальний родственник; на мои вопросы Анхела отвечала весьма здраво и с юмором. Выглядела Анхела такой зрелой и рассудительной, что мне стоило труда поверить, что это именно она. Больше всего меня поразило то, как она в конечном итоге стала воспринимать свою жизнь. Через несколько минут она уже не казалась мне такой постаревшей, как на первый взгляд, а почти такой же юной, какой я помнил её; и совсем не похожей на ту девушку, которую заставили выйти замуж без любви в 20 лет. Её мать, впавшая в старческое беспамятство, приняла меня, словно я был привидением. Она отказалась говорить о прошлом, и мне пришлось довольствоваться несколькими репликами, вырванными из её разговоров с моей матерью и ещё кой-какими словами, которые я сам смог припомнить. Пурисима сделала всё возможное и невозможное, чтобы похоронить Анхелу заживо, но та собственными руками свела на нет все усилия матери, поскольку никогда из своего несчастья тайны не делала. Напротив: всем, кто хотел услышать, она рассказывала всю историю в подробностях за исключением одного: кто в действительности был виновником её бесчестья, как и когда это случилось, – ведь никто не верил, что это на самом деле был Сантьяго Назар. Они принадлежали к двум разным мирам. Их никогда не видели вместе, а тем более наедине. Сантьяго Назар был слишком заносчив, чтобы обратить на неё внимание. "Твоя дурочка-кузина", – говорил он всякий раз, когда ему приходилось упоминать её. Кроме того, Сантьяго, как мы тогда говорили, был ходСк по женской части. Он, как и его отец, гулял сам по себе и не прочь был приволокнуться за всякой беспутной дамочкой, попадавшей в наши палестины; но в городке никогда не слыхали, чтобы у него были особые отношения с кем-то ещё кроме благопристойной помолвки с Флорой Мигель и бурной связи с Марией-Алехандриной Сервантес, продолжавшейся четырнадцать месяцев. Самой распространённой, хоть и самой недоброжелательной версией была та, что Анхела Викарио защищала кого-то, кого любила на самом деле, а Сантьяго Назара выбрала, решив, что братья никогда не осмелятся что-нибудь ему сделать. Я сам попытался вытянуть у неё правду, когда приехал второй раз, приведя в порядок свои доводы, но она едва подняла глаза от своего вышиванья, чтобы отбить их. "Не ломай головы, братец, – сказала она. – Это был он".
Обо всём остальном она рассказывала без стеснения, даже о катастрофе брачной ночи. Она рассказала, что подруги подучили её напоить мужа в постели до потери сознания, изобразить чрезмерную стеснительность и заставить его погасить свет, а также сделать себе едкое промывание из квасцов, чтобы изобразить девственность и запачкать простыню меркухромом, чтобы наутро выставить её в патио на всеобщее обозрение. Они не приняли во внимание двух вещей: исключительной стойкости к вину Байардо Сан-Романа и чувства собственного достоинства, которым обладала Анхела Викарио; достоинства, скрытого под маской тупого смирения, навязанного ей матерью. "Я не сделала ничего из того, чему меня научили, – говорила она мне, – чем больше я думала, тем большей пакостью всё это мне казалось. Я бы никому не стала такого делать, и уж тем более тому бедняге, что имел несчастье на мне жениться". Так она позволила раздеть себя донага в освещённой спальне, свободная от страхов, что угнетали её всю жизнь. "Это было очень легко, – рассказывала Анхела, – потому что я решилась умереть".
На самом же деле она говорила без всякого смущения о своей беде, чтобы скрыть другое горе, истинное, пожиравшее её изнутри. Никто и заподозрить не мог, пока она не решилась мне рассказать, что Байардо Сан-Роман навсегда остался в её жизни с тех пор как привёл её обратно домой. Это было как удар милосердия во время корриды.
"Когда мама принялась колотить меня, я неожиданно вспомнила о нём", – сказала мне Анхела. Мне было не так больно от ударов кулаком, потому что били меня из-за него. Сама себе удивляясь, она продолжала думать о нём, валяясь на диване в столовой. "Я плакала не от побоев, не из-за всего того, что случилось. Я плакала по нему". Она думала о нём, пока мать накладывала ей на лицо компрессы из арники; и не переставала думать, даже когда с улицы послышались крики, звуки набата с колокольни и мать, войдя, сообщила, что теперь она может поспать, потому что самое худшее позади.
Она провела уже много времени, думая о нём безо всякой надежды, когда ей пришлось сопровождать мать на осмотр к глазному врачу в больницу Риоачи. По дороге они зашли в портовую гостиницу, с хозяином которой были знакомы, и Пурисима Викарио попросила стакан воды в кантине. Пока она пила, стоя спиной к дочери, та увидала свои собственные думы, отражёнными в многочисленных гостиничных зеркалах. Затаив дыхание, Анхела обернулась и увидела, как он прошёл рядом, не заметив её, и вышел из гостиницы. С тяжёлым сердцем она снова посмотрела на мать. Пурисима Викарио допила воду, стоя возле бара, утёрла губы рукавом и улыбнулась дочери, глядя сквозь новые очки. В этой улыбке Анхела впервые увидела свою мать такой, какой та была на самом деле: несчастной женщиной, всю жизнь лелеявшей собственную ущербность. "Какая же мерзость!" – сказала себе Анхела. Её чувства пришли в такой беспорядок, что всю обратную дорогу она громко пела, а дома бросилась на постель и три дня проплакала.
Она родилась заново. "Я с ума сошла из-за него, – говорила мне она, – совершенно обезумела". Ей стоило лишь закрыть глаза, чтобы его увидеть; в шуме моря ей слышалось его дыхание; среди ночи она просыпалась, чувствуя жар его тела рядом в постели. Всю неделю она не знала, куда себя деть и, наконец, написала ему первое письмо. Это была вежливая записка, в которой она рассказывала, что видела его выходящим из гостиницы, и что ей было бы приятно, если бы он тоже её заметил. Ответа она ждала напрасно. Через два месяца, устав от ожидания, она послала второе письмо в том же обтекаемом старомодном стиле с единственной целью попенять ему на недостаток вежливости. За следующие шесть месяцев она успела написать шесть писем, все без ответа, но ей хватало и того, что он их получает.
Оказавшись впервые в жизни хозяйкой собственной судьбы, Анхела Викарио открыла, что ненависть и любовь – страсти обоюдные. Посылая письмо за письмом, она всё сильнее разжигала свою горячку, но всё сильней разгоралась и её счастливая ненависть к собственной матери. "У меня всё нутро переворачивалось от одного её вида, но, глядя на неё, я не могла не вспоминать о нём" . Её жизнь опозоренной невесты оставалась такой же простой как прежняя, девичья, с вечным шитьём на машинке в окружении подруг, с изготовлением лоскутных тюльпанов и бумажных птичек; но когда мать отходила ко сну, Анхела, сидя у себя в комнате, неизменно писала безнадёжные письма до самого рассвета. Она стала просветлённой и властной, обрела собственную волю, снова превратилась в девственницу ради него одного, и покорялась с той поры лишь своему любовному наваждению.
Полжизни она писала еженедельные письма. "Порой мне не приходило в голову, что писать, – говорила она, умирая со смеху, – но мне достаточно было знать, что он их получает". Сперва это были записочки влюблённой школьницы, затем послания тайной любовницы; надушенные письма невесты, воспоминания и свидетельства любви, и напоследок – возмущённые письма покинутой жены, которая изобретает себе жестокие болезни, чтобы заставить мужа вернуться. Однажды вечером, пребывая в весёлом настроении, она опрокинула чернильницу на законченное письмо, и вместо того, чтобы порвать его, написала постскриптум: "В доказательство любви я посылаю тебе свои слёзы". Иногда, устав от слёз, она бунтовала против собственного безумия. Шесть раз сменились барышни на почте, и шесть раз Анхела сумела добиться их соучастия и помощи. Ей даже в голову не приходило сдаться. Однако он, казалось, оставался безучастным к её безумию: она писала словно в пустоту.
Однажды ветреным утром на десятый год Анхелу разбудило уверенное ощущение того, что он лежит нагой в её постели. Тогда она написала горячечное письмо на двадцати страницах, в котором бросила ему в лицо горькие истины, точившие её сердце с той злополучной ночи. Она писала о незаживающих ранах, которые он оставил в её теле, о его солёном языке, об огненной дрожи и африканском жаре его чресл. Она передала письмо почтовой служащей, приходившей к ней за письмами вечерами по пятницам под предлогом совместного шитья, и осталась уверенной в том, что этот приступ был последним в её агонии. Но ответа не было. С тех пор она уже не сознавала, что пишет, кому пишет, но продолжала осаду ещё семнадцать лет.
Однажды в середине августа, сидя за швейной машинкой в окружении подруг, она почувствовала, что к дверям кто-то подошёл. Ей не нужно было смотреть, чтобы узнать, кто приехал. "Он растолстел и начинал лысеть и носил очки от дальнозоркости, но это был он, чёрт возьми, это был он!" Она испугалась, потому что знала, что он видит её такой же поблёкшей, каким она видит его, но не верила, что в нём столько любви, сколько в ней, чтобы это выдержать. Его рубашка была пропитана потом, как и в тот раз, на ярмарке, когда она впервые встретила его, при нём был тот же саквояж и те же седельные сумки, расшитые серебром. Байардо Сан-Роман сделал шаг вперёд, не обращая внимания на остальных швей, застывших от удивления, и водрузил седельные сумки на швейную машину.
– Ну что ж, – произнёс он – вот и я.