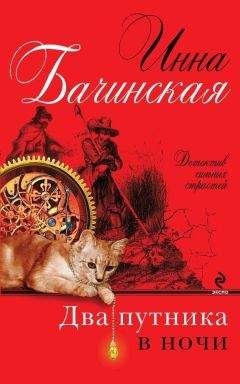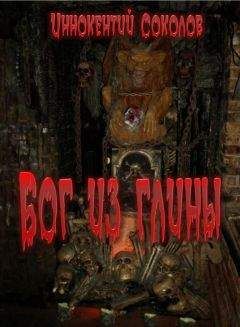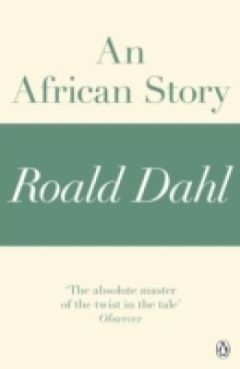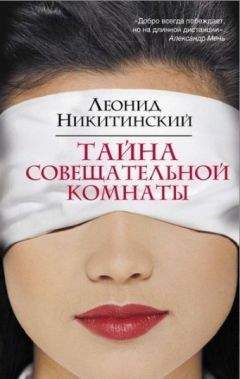Стивен Бене - Рассказы
Я не буду рассказывать все — кому известно все? Я не буду рассказывать о том, как он набрел на покинутую факторию и о сорока золотых французских луи в поясе мертвеца. Не буду рассказывать о подростке Макгилври, которого он нашел на окраине поселка — паренек стал впоследствии его компаньоном, — о том, как они опять торговали с шони и добыли много бобров. Одно мне осталось рассказать, потому что это правда.
Он давно уже и не вспоминал о Мейере Каппельгейсте — об этом предприимчивом детине с рыжей шерстью на руках. Но теперь они держали путь к Филадельфии, он и Макгилври, со своими вьючными лошадьми и бобровыми шкурами; и когда тропы опять стали знакомыми, в голове зашевелились прежние мысли. Мало того, в дальних лесных поселениях его встречали слухи о рыжем купце. Поэтому, повстречав его самого в каких-нибудь тридцати милях от Ланкастера, Якоб нисколько не удивился.
Так вот, Мейер Каппельгейст всегда казался дедушке нашего дедушки громадным мужчиной. Но тут, в дебрях, случайно попавшись ему на дороге, Мейер Каппельгейст не показался таким громадным, и это Якоба изумило. Еще больше изумился Мейер Каппельгейст: он долго и озадаченно смотрел на дедушку нашего дедушки, а потом закричал: «Так ведь это маленький талмудист!» — и шлепнул себя по колену. Потом они чинно поздоровались, и Мейер Каппельгейст выпил по случаю встречи, а Якоб пить не стал. Потому что, пока они говорили, Мейер Каппельгейст не отрывал алчных глаз от его вьюков с бобрами, и это Якобу не понравилось. Не понравилась ему и тройка мирных индейцев, сопровождавшая Мейера Каппельгейста, и, хотя Якоб сам был человек мирный, оружие он держал под рукой, и парнишка Макгилври — тоже.
Мейер Каппельгейст уговаривал его двигаться дальше вместе, но Якоб отказался — как я уже говорил, ему не понравились глаза рыжего купца. Он сказал, что пойдет другой дорогой, и на этом кончил разговор.
— А что слышно о Симоне Эттельсоне — я знаю, ты близок с ними, у них, конечно, все хорошо? — спросил Якоб на прощание.
— Близок с ними? — сказал Мейер Каппельгейст и стал чернее тучи. Потом натянуто засмеялся. — А я с ними больше не знаюсь. Старый мерзавец пообещал выдать дочку за родственника Сейхасов — из новеньких, только что приехал, но богатый, говорят. А вообще, мы с тобой легко отделались, ученый, — на мой вкус, она всегда была маленько костлява. — И он грубо захохотал.
— Она была нарцисс Саронский и лилия долины, — почтительно сказал Якоб, не ощутив, правда, той боли, какую должно было бы вызвать это известие, зато еще больше утвердившись в решении не идти вместе с Мейером Каппельгейстом. На этом они расстались, и Мейер Каппельгейст пошел своей дорогой. А Якоб на развилке выбрал тропу, которую знал Макгилври, — и правильно сделал. Когда они пришли в Ланкастер, их ждала новость о купце, убитом спутниками-индейцами; Якоб стал выяснять подробности, и ему показали что-то засушенное на обруче из лозы. Якоб посмотрел на эту вещь и увидел, что волосы на ней рыжие.
— И оскальпировали, видишь, но мы отняли, — сказал житель пограничного поселка. — Когда мы поймали краснокожего черта, эта штука была при нем. Надо было бы и скальп похоронить, наверно, да самого-то раньше похоронили ничего не поделаешь. Пожалуй, захвачу с собой как-нибудь в Филадельфии, может быть, на губернатора подействует. Слушай, если ты туда идешь, можешь взять — он же сам оттуда. Родственникам его оставишь на память.
— Мог быть и мой, если бы я пошел с ним, — сказал Якоб. Он еще раз посмотрел на эту вещь, и душа в нем восстала против того, чтобы к ней прикоснуться. Но городским не мешало знать, что случается с человеком в дебрях и какова цена крови. — Я возьму его, — сказал он.
Якоб остановился перед дверью Рафаэля Санчеса в Филадельфии. Он постучал в нее кулаком, и выглянул сам старик.
— И какое же у тебя ко мне дело, житель границы? — выглянув, спросил старик.
— Сколько крови дают за страну? — сказал Якоб Штайн. Он не повысил голоса, но слышалась в нем такая нотка, которой не было в первый его приход к Санчесу.
Старик смотрел на него хладнокровно.
— Входи, сын мой, — сказал он наконец, и Якоб дотронулся до мезузы у косяка и вошел.
Он брел по передней и коридору как спящий человек. Потом он оказался в кресле, за столом из темного красного дерева. В комнате не изменилось ничего… ему было странно видеть, что в ней ничего не изменилось.
— Что же ты видел, сын мой? — промолвил Рафаэль Санчес.
— Я видел землю Ханаанскую, где течет молоко и мед, — ответил Якоб, мудрец Торы. — Я принес виноград Есхола и другие вещи, видеть которые страшно! — закричал он и услышал, как вместе с криком из горла его рвется рыдание. Он подавил рыдание. — Кроме того, есть восемнадцать вьюков лучшего бобра, они лежат на складе, и есть мальчик по фамилии Макгилври, христианин, но очень надежный, — сказал он. — Бобры очень хорошие, и мальчику я покровительствую. А Маккемпбел умер у великой реки, но он видел эту землю, и, я думаю, он покоится в мире. Карта составлена не так, как мне хотелось бы, но на ней показаны новые места. И мы должны торговать с шони. Надо построить три фактории — я отметил их на карте, — а потом еще. За великой рекой — страна, простирающаяся до края света. Перед ней лежит Маккемпбел, и лицо его обращено к западу. Но какой толк в разговорах? Ты не поймешь. — Он опустил голову на руки, потому что в комнате было слишком тихо и покойно, а он очень устал. Рафаэль Санчес обошел вокруг стола и тронул его за плечо.
— Разве я не говорил тебе, сын мой, что в дебрях можно найти кое-что другое, кроме девичьего лица? — сказал он.
— Девичьего лица? — сказал Якоб. — Да она собирается замуж и, надеюсь, будет счастлива, потому что она была лилия долины. Но что такое девичьи лица рядом с этим? — И он бросил на стол какую-то вещь. Она сухо загремела по столу, как сброшенная змеиная кожа, но волосы на ней были рыжей масти.
— Это было Мейером Каппельгейстом, — по-детски пожаловался Якоб, — а он был человек сильный. Я же не сильный, а ученый. Но я видел то, что видел. И мы должны прочесть кадиш[9] по нему.
— Да, да, — согласился Рафаэль Санчес. — Это будет сделано. Я позабочусь.
— Но ты не понимаешь, — сказал Якоб. — Я ел оленье мясо в дебрях, и я забыл месяц и год. Я был слугой у язычников и держал в руке скальп моего врага. Я никогда не стану прежним человеком.
— Нет, ты станешь прежним, — сказал Санчес. — И может быть, не менее ученым. Но это новая страна.
— Пусть это будет страна для всех, — сказал Якоб. — Потому что мой друг Маккемпбел тоже умер, а он был христианином.
— Будем надеяться, — сказал Рафаэль Санчес и снова тронул его за плечо.
Тогда Якоб поднял голову и увидел, что свет убывает и спускается вечер. И пока он смотрел, вошла внучка Рафаэля Санчеса, чтобы зажечь свечи для субботы. И Якоб посмотрел на нее, и она была голубица с голубиными глазами.
За зубом к Полю Ревиру[10]
Перевод И. Бернштейн
Одни говорят, это Хэнкок и Адамс[11] ее заварили (сказал старик, попыхивая трубкой), другие спорят, что все началось еще с Закона о гербовом сборе или даже того раньше. Опять же есть которые стоят за Поля Ревира и его серебряный коробок. Но как я слышал, она разразилась из-за Лиджа Баттервика и его зуба.
Что разразилось? Да она, Американская революция. Что же еще. Вы вот тут толковали про то, как южане запрягали крокодилов землю пахать, я к слову и припомнил.
Да нет же, это не басни. Мне рассказывала двоюродная бабка, она сама урожденная Баттервик. Она много раз писала куда надо, хотела, чтобы тот случай внесли в книги по истории. Но всегда ей отказывали под каким-нибудь пустячным предлогом. Наконец она разозлилась и написала письмо прямо президенту Соединенных Штатов. Нет, понятное дело, собственноручно он ей не ответил, у президента, надо полагать, дел хватает. Но в ответе, который ей прибыл, сказано, что президент получил ее интересное сообщение и выражает ей признательность, так что вот. Эта бумага у нас в рамке на стене висит, чернила, правда, малость повыцвели, но подпись еще можно разобрать — не то Бауэре, не то вроде Торп, — и почерк прямо каллиграфический.
Историю, как она в книгах записана, моя двоюродная бабка не уважала. Ей нравились в истории неожиданные закоулки и разные предания, какие сохраняются в семьях. К примеру, про Поля Ревира все только то и помнят, как он скакал на коне. А когда о нем рассказывала моя двоюродная бабка — ну прямо видишь его в мастерской, как он заваривает в серебряном чайнике Американскую революцию и ждет, пока настоится. Да, верно, он был серебряных дел мастер, но, по ее словам, это еще не все. Как она рассказывала, выходило, что в его быстрых и ловких руках таилась волшебная сила, и вообще он был из тех людей, кто умеет заглядывать в будущее. Но когда речь заходила о Лидже Баттервике, тут уж бабка пускалась во все тяжкие.