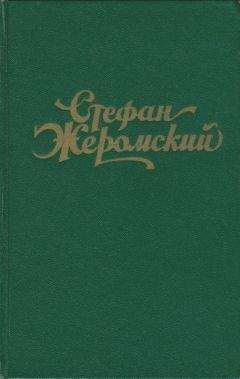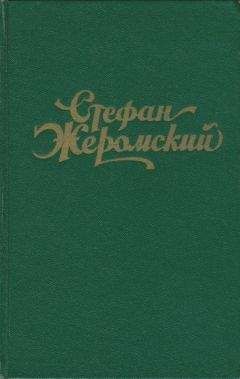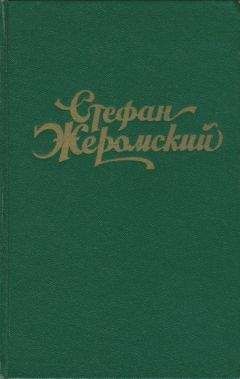Стефан Жеромский - О солдате-скитальце
Когда он сидел так у камина, унынием веяло на него из всех углов комнаты. Он чувствовал, что подсту пает злая тоска, что скоро она занесет над ним свой разбойничий нож. Желая отвлечься от тяжелых мыслей, он встал и вышел в соседнюю комнату.
В доброе старое время в ней завтракали и обедали. Это был длинный и довольно узкий зал. Середину его занимал огромный стол, за которым могло сидеть несколько десятков человек. На стенах висели портреты предков. Были там почерневшие полотна, на которых едва можно было различить неестественно прямые, деревянные фигуры, похожие на доски, обернутые в малиновые и желтые ткани; были какие‑то уроды с женскими лицами и затейливыми буклями; были пузатые мужчины с большими красными лицами и обвислыми щеками; были, наконец, портреты людей неописуемой красоты.
На ярко освещенной стене висел портрет рыцаря в латах, выполненный с таким мастерством, что казалось, этот важный человек вот — вот выйдет из рамы. Тяжелый железный панцирь не был для рыцаря парадным одеянием, казалось, он был создан для этих могучих плеч и широкой груди. Сильная рука, вытянутая вперед, опиралась на сломанное древко копья, суровое лицо смотрело не на зрителя, а куда‑то поверх его головы…
На противоположной стене висели портреты пана Опадского и его покойной жены. Оба эти полотна в свое время писал Лампи[43]. На портрете была изображена прелестная женщина с полуобнаженной грудью, устремившая вдаль притворно мечтательный взор. В руке она держала букет цветов. Рядом с нею сидел барин, настоящий барин, веселый и легкомысленный. Темным золотистым тоном были написаны его бритое лицо, красивые, мягкие, холеные щеки и белый, как алебастр, лоб.
Пан Опадский в задумчивости стал расхаживать вокруг стола медленными старческими шагами. Паркет поскрипывал под ногами, едва заметная тень двигалась за ним по стенам. Окна комнаты выходили в сад. Видны были оголенные деревья, мрачные в своей наготе и как бы разбухшие от весенних дождей. На дорогах, в глубине парка, на далеких просторах, всюду было уныло и пусто, и тяжелые предчувствия сте сняли грудь старика, обращая все радости жизни в прах.
Пан Опадский отвернулся и, вздохнув, взглянул на портрет жены. С минуту он смотрел на ее изображение, не совсем похожее, но верно передающее дух того времени, погребенные мечты и ту страсть, которая уже давно угасла. И вдруг старик горько заплакал. Он ощутил в костях и в сердце всепожирающую дряхлость, предвестницу смерти. В слезах, катившихся по щекам, изливал он жалобу на беспощадное время, отнимающее молодость, здоровье, крепость мускулов, огонь в крови, счастье, веселье и богатство. Из всей огромной толпы знакомых осталась только одна тень жены, ее портрет, с которым он мог поделиться воспоминаниями о восхитительных развлечениях, ничем не омраченном веселье, остроумных интригах, очаровательных женщинах и мужчинах, стоявших на вершине цивилизации. Никто уже не мог его понять, никто не мог даже вообразить себе тот сказочный мир, который промелькнул, как тень, и сошел в могилу. Потому‑то в слезах пан Опадский выражал свою безмерную любовь к этой тени, запечатленной на портрете.
Когда он забылся, поглощенный своими мыслями, дверь открылась и Франусь, которого он поджидал, просунул голову в комнату. Это был любимец помещика. Он выполнял одновременно обязанности камердинера и управителя имения. Дворецкий, приказчики и слуги должны были строго исполнять все его приказания, хотя главная его обязанность заключалась в чесании пяток помещику, когда тому не спалось. Франусь был молодой человек, низенький, невзрачный и щуплый. Ходил он всегда в полушубке и очень высоких сапогах, особенно подчеркивавших кривизну его худых, как палки, ног. Он спал в маленькой комнатушке рядом со спальней пана Опадского и был его постоянным собеседником. Франусь вошел в комнату, тщательно притворил дверь и с едва скрываемой радоссью прошептал:
— А я вам, ваша милость, расскажу важную новость, если только получу от вас тот шелковый поясок…
— Ничего ты, осел, не получишь, а новость свою спрячь себе в карман и убирайся отсюда. Что ты мне скажешь? Что приплелся Пулют?..
Франусь рот разинул от изумления.
— А вы откуда знаете?
— Знаю и все тут. Был ты в Будах?
— Был, а как же!.. Там они так бушуют, не приведи бог.
— Кто они?
— Как, кто они?.. Мужичье в корчме.
— Чего это они? Крестины, что ли?
— Нет, не крестины, а все из‑за этого Пулюта. Ехал я верхом из Костжевна, вижу, идут два каких‑то чучела. Двинулся я за ними следом и ехал до тех пор, пока они не завернули к Берку. Тут я соскочил, лошадь оставил за углом, а сам забрался в боковушу. Сидел да слушал, о чем они болтают. Когда я туда пробрался, они уже со всеми обнимались. Как же, друзья — приятели! Если бы вы знали, пан, чего только не наговорил там этот бродяга. Я прямо трясся, так мне хотелось схватить арапник, сорвать с него шапку да погнать олуха навоз выбрасывать из хлева, но побоялся…
— Побоялся? — спросил пан Опадский со странным блеском в глазах.
— Конечно, побоялся. Хоть они уже в отставке и калеки, идут прямо из госпиталя в Токарах, и хоть у старого руки нет, а младший, чужой, всю зиму болел кровавым поносом, но я побоялся. Еще, пожалуй, вернется к нам этот Наполеон да прикажет мне башку отрубить. На кой черт мне с ними связываться?
— Что ты плетешь! — перебил его помещик. — Садись сейчас же на лошадь и поезжай назад в Буды, спрячься в боковуше, где хочешь, только поскорее возвращайся с вестями, что там и как. Откуда этот другой и кто он — это мне нужно знать точно. Запомни все их подлые разговоры, если они на них решатся, и возвращайся живей.
Франусь затянул пояс, хлестнул себя арапником по голенищам и вышел, а пан Опадский приказал подавать на стол. Обедали не в большой столовой, а в другом конце дома, в узкой комнате по соседству с боковушами приживальщиков и комнатами вдовы. Когда старый пан вошел в эту столовую, все были уже в сборе и приветствовали его низкими поклонами. У окна сидела вдова, надменная шляхтянка, страдавшая зубной болью; вечно раздраженная, она никогда ни с кем не разговаривала; в конце стола, примостившись на краешке стульев с особыми пометами, сидели несколько дряхлых стариков, исподлобья робко следивших за выражением лица и жестами помещика. Пан Опадский пробурчал приветствие, сказал каждому из присутствующих какую‑нибудь любезность, сел за стол и начал торопливо есть суп. Блюда приносили из кухни, находившейся на другом конце большого двора, и обед продолжался всегда очень долго.
Лакеи начали как раз обносить четвертое блюдо, когда за стеной раздался громкий топот, грязь брызнула прямо на окна и в облаке пара Франусь осадил перед крыльцом взмыленную лошадь.
Пан Опадский заморгал и процедил сквозь зубы одному из приживальщиков:
— Позовите его сюда, пожалуйста!
Через минуту появился Франусь, голова у него была обмотана тряпкой, на которой проступали кровавые пятна.
— Это что такое? — спросил пан Опадский, пристально глядя ему в глаза.
— Что?.. Мужики меня увидали… Втащили в комнату…
Франусь присел на табурет и громко заплакал.
— Ты, пожалуйста, не реви, а рассказывай все толком!..
— Что ж тут рассказывать! Они все как один стали орать, что на барщину больше не пойдут… Приперли меня к стенке и давай тыкать в нос кулаками. Счастье, что мне удалось пробраться к двери, выскочил я за порог да кинулся к лошади. Уже нога была в стремени, когда кто‑то угодил мне камнем в голову. В глазах у меня потемнело… Счастье, что кобыла помчалась вскачь, а то не сносить бы мне головы. Вы, вельможный пан, всегда одного меня… — продолжал он тонким плаксивым голосом.
— Франусь, изволь замолчать! — спокойно сказал пан Опадский, выпятив губы и глядя в окно.
Затем, подняв брови, он развел руками и произнес:
— Ничего не поделаешь… Ничего не поделаешь… Кто сеет ветер…
Все чинно молчали, только Франусь громко стонал…
— Случись такое со мной — ну! — шепотом пробасил самый молодой приживальщик, глядя на соседа так, точно он только к нему обращался. Не успел он окончить, как пан Опадский повернулся вдруг к Франусю и сказал:
— Иди так вот, как есть, с тряпкой на голове, и зови сюда этих мещанишек. Ходи из дома в дом и говори, что я прошу их прийти, да поживей, поживей же…
Сказав это, он встал из‑за стола, сделал общий поклон и поспешно ушел к себе в кабинет.
Не прошло и получаса, как в буфетной собралась толпа мещан, ожидавших выхода помещика. Пришли больше пожилые люди, а то и вовсе дряхлые старики. На всех были длинные синие сюртуки, не исключая и тех, которым для полноты праздничного наряда не хватало сапог. Все эти «граждане» местечка Зимной работали у помещика на барщине вместе с «мужичьем». На их почерневших, худых и изможденных лицах видна была тревога, в движениях рабская покорность.